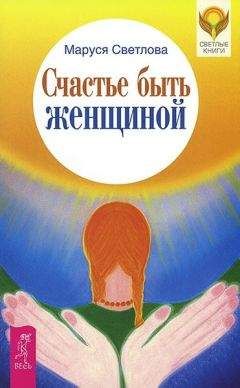Леонид Гартунг - На исходе зимы
Она покорилась. Через некоторое время прихожу — она уже в постели, из-под одеяла одни глаза видны. И такая в этих глазах тоска смертная, передать трудно. Собрал я ее вещички мокрые, на веревку около русской печи развесил, кофе ей принес, и она с готовностью, даже с жадностью какой-то выпила одну чашку, другую, а сама дрожит вся и спрашивает:
— Что это со мной такое?
— А это, — говорю, — из тебя холод выходит. Спи спокойно. Ни о чем не тревожься. Георгия твоего ни бог, ни черт не обидят.
Погасил свет у нее, а сам в кухне лег, не раздеваясь, на всякий случай. Лежу и слушаю — как она. А она не спит. Поворочалась, поворочалась и зовет:
— Иван Леонтич!
Понял, не может ее душа одиночества терпеть. И мне тоже в это время было плохо и одиноко, и так я обрадовался, что ей оказался нужен. Сильно обрадовался, но сейчас же спрятал поглубже эту радость неуместную. Пришел к ней, хотел свет зажечь. Она воспротивилась:
— В кухне пусть горит, а здесь не надо. Глазам больно.
Слышу, совсем говорить разумно стала. Сел рядом на табурет.
— Вы, — говорит, — не сердитесь на меня, что я вам столько хлопот причиняю. — И вдруг спрашивает: — А в вашем возрасте возможно вдруг взять и влюбиться?
— В моем возрасте какая уж любовь, — соврал я бессовестно.
— А мне странно… Так странно.
— Что именно?
— То, что он здесь живет. И я сейчас в этом доме. Даже не верится. Если б знал он, что я здесь. Он не на этой постели спит?
— Нет, в кухне.
Никогда не видел я прекрасней лица, с печалью недетской в чертах, хотя она девочка. Нет, не девочка была передо мной, а любящая женщина, большая душа, привязанная к хрупкому телу.
Потом она рассказывала, а я почти ничего не спрашивал, только иногда вставлял одно-два слова, чтобы дать ей понять, что слушаю и вникаю. Рассказывала она о матери. И, может быть, для того, чтобы легче было говорить, или просто по какой-то неразумной детской потребности — она руку мою взяла, положила рядом с подушкой и прижалась горячей своей ладошкой. Может, этой руки ей всю жизнь не хватало…
Слушал я ее и понимал — никому она этого еще не говорила. Была в ее словах боль такая, какая бывает только первый раз. Неумелость откровенности, которую не подделаешь. И вот именно этого я и ждал. Боялся, что никогда она мне не раскроется. И как нужно было судьбе швырнуть эту девчонку, чтобы сорвать с нее скрытность, ставшую натурой! Нужна была боль невыносимая, когда ни о каких стеснениях уже не думаешь, а тянешься к живой душе, как утопающий. Хотела говорить шепотом, а получился тихий крик, который до сих пор у меня в ушах.
Потом успокоилась понемногу, и рука ослабела. Я позвал ее — не откликнулась. Осторожно ушел к себе. В эту ночь узнал я столько, что вот уже не один день прошел, а все вспоминаю подробности и нахожу в них нечто особенное. Другого такого разговора никогда не будет. Иной всю жизнь о себе болтает, а эта за один раз вся раскрылась. А может, расчувствовала, что я что угодно понять могу? И горе и радость, как свой. Только тяжко бывает от такой откровенности. Расскажет иной и забудет, а я хожу, и рассказанное во мне места не находит, не может уложиться, исчезнуть. Словно осколки не могу сложить в целое, и режут они душу краями. Почему-то и мужчины, и женщины откровенны бывают иногда до странности, особенно женщины, рассказывают такое, обо всем самом женском, как будто я и не мужчина.
* * *Примчалась она ко мне раным-рано, и как глянул я на нее, сразу понял, что Гошка отыскался. Отлично, что ни к кому-нибудь, а ко мне первому поделиться новостью.
— Садись со мной, закуси.
И еще мне понравилось, что она быстренько курточку скинула и против меня уселась, этак совсем по-домашнему. И опять я Валентинку вспомнил, когда она такой же быстроногой девчушкой была.
Впрочем, есть Варя почти не ела, а больше говорила. И, конечно, все о нем. Только-только она с почты. Она так тревожилась, так тревожилась, потому что голос его по телефону не сразу узнала. Сперва обмерла вся от страха, а потом как назвал он ее по имени, так от души отлегло.
Смотрел я на Варю и думал: «Вот и счастье свое нашла. Если только счастье, а не беду…»
Позавтракали, она посуду принялась мыть. Потом прибираться взялась. Я ее хотел остановить, да разве с такой девчонкой сговоришься? Юбку подоткнула. Мне только кинула:
— Вы на меня не смотрите.
Принялась полы мыть, ножом скоблить. Потом цветы полила. В подполье извести достала, печь подбелила. И заметил я, что все это ей не в тягость, а напротив — удовольствие доставляет. Оно и понятно: не было давно уже у нее своего угла. Кроме того — для него старается, для Гошки.
И в библиотеке в этот день ей, наверно, больше всех досталось. Целый день книги носила. Потом, когда стемнело, говорит мне:
— Я сбегаю? Узнаю?
Убежала и не вернулась. И по этому заключил я, что Георгий домой вернулся. Как они встретились, я, понятно, не видел. До ночи книги возили. Умаялись — спасу нет. Юлька сердилась:
— Куда Варюха запропастилась?
А я ей:
— Никуда она не денется, не беспокойся.
Домой явился часу в одиннадцатом. Постучал на всякий случай. Слышу голос Георгия:
— Можно!
И то слава богу, что можно. Лишний не лишний, а деваться мне некуда.
В кухне света нет. Смотрю, они в спаленке. Он на кровати лежит, а она рядом присела. Глянул я на него — видать, досталось парню. Подбородок обморожен, струпьями покрылся. Весь оброс — как боров в щетине.
— Ну, — говорю, — видок у тебя.
— Наплевать…
А лицо такое счастливое, словно сто тысяч выиграл по трехпроцентному займу.
Что касается Вари, то она ни лица его распухшего, ни щетины колючей не замечает, светится вся: лампу погаси — в избе светло будет, газету читать можно.
Покопался я в кухне, что-то пожевал, мне и спать пора.
— Вы-то, — спрашиваю, — поели?
— А мы не хотим, — отвечают.
— Тогда спокойной ночи.
Прикрыл дверь в спальню, оставил их наедине. Что поделаешь? Подумалось только, что вот приедет Анна — будет нам на орехи, и старым и малым, а мне в первую голову, ибо именно мне было поручено блудного племянника от всех соблазнов жизни оберегать.
Прислушался — шепчутся. О чем — понять невозможно, но догадаться нетрудно. А в результате я вдруг заплакал. Не от горя, не от радости, а так просто, ни с чего. Как будто слезы накопились и нужно было их вон вылить. Так не плакал я еще ни разу за всю жизнь. Без стыда за слабость, с радостью даже. И после того вся боль и тяжесть оставили меня, и стало на душе чисто и ясно.
А утром на работу надо. Какие б происшествия не происходили, а работа есть работа. Зашел я к ним в спаленку, побудить, а они, видно, и не спали. Только теперь она лежала, а он рядом сидел. Сказал я им:
— Тебе, Георгий, я сала гусиного на столе оставил в кухне. Намажь физиономию и на мороз не ходи. А тебе, Варя, по случаю встречи объявляю отгул до обеда.
Так и поселилась у нас Варя…
24Еще девчонкой полюбила Пана Василия Лихачева. Сначала он не обращал на нее внимания, хотя с годами стала она красивой, статной девушкой. Потом вышла за него замуж, троих детей от него родила, а все оставался он для нее единственным, желанным, и по-прежнему загоралась Пана румянцем от волнения, когда он обнимет или поцелует.
Знала она, что женился Василий на ней бездумно, и вначале боялась, что он так же бездумно уйдет, а потом присмотрелась к нему и успокоилась. Мог он принародно обнять молодую девку или женщину, разбаловавшись на покосе, кинуть в сено, потискать, но твердо верила Пана, что ничего серьезного он себе не позволит.
Любил он быструю езду, как черт носился по сельским дорогам на своем мотоцикле, разбивался. Отлежится и опять за свое. Пожар, наводнение или другое какое несчастье — он первый куда ни попади свою голову сует. Такой уж характер. Не могла примириться Пана с другим… С годами поняла она, что все же несчастлив с ней Василий, несмотря на всю ее любовь и заботу. Догадывалась, что не смогла дать ему чего-то, для него самого важного, и не в образовании было дело. Потому и жила она без уверенности в завтрашнем дне: словно не с мужем, не с отцом своих детей, а с парнем, которому верить нельзя. Догадывалась она, что может он наплевать в конце концов и на деньги, и на уют, и на положение. Ни к чему он не был привязан крепко, ничего не боялся в жизни. Весь в свою породу, в лихачевскую…
Соседки завидовали:
— С твоим чего не жить. Не пьет, деньги до копеечки домой несет.
Что правда, то правда — пил Василий редко, а чтоб опохмеляться — то вовсе этой моды не знал.
Нет, не боялась она, что он уйдет. Знала: крепко-накрепко держат его дети. Не боялась до самого последнего времени, а тут закралась в сердце тревога. Каким-то другим он стал — невеселым и озабоченным. И пошутит, и посмеется, но вроде без души, будто по обязанности. Не умел он лгать и притворяться. Да разве от жены скроешь?