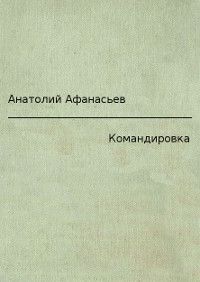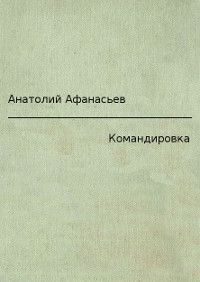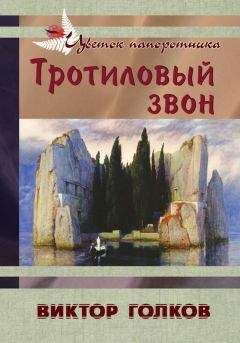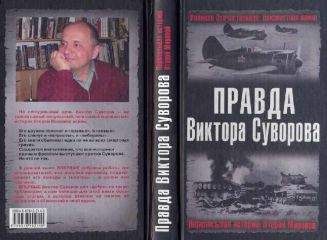Анатолий Афанасьев - Командировка
Прохоров заерзал в панцире пиджака. Его смех не соответствовал ни внешности, ни манере говорить.
Смех — громкий, унылый — принадлежал другому человеку, тоже не очень счастливому.
— Эх, какая смена растет, какая смена! — Дмитрий Васильевич воспользовался случаем, возобновил ерническое бормотание, и телевизионная помеха суматошного взгляда начисто стерла выражение его лица. — Это ведь сердце радуется. Одаренные дети, вундеркинды. Я в их пору писать-то грамотно не умел, а у них уже цель, уже направление. Вы, Виктор Андреевич, возможно улавливаете некоторую иронию в моих словах — это от зависти. Только от нее. Вы, простите, в какой институт собираетесь поступать, Шурочка?
— В политехнический.
— Изумительно. Всей душой желаю вам удачи.
Вы поступите Сейчас в: е поступают. Каждый второй защитит докторскую, а каждый третий станет академиком. Поибор, говорите, не тянет? Какая малость, ерунда. Главное — человек. Никуда не денется приборчик. Загудит, засвиристит, засверкает — от одного страха заработает.
Я слушал, слушал и понял, что остановка не скоро и продолжать деловой разговор бессмысленно.
— Вы увлеклись, Дмитрий Васильевич, — сказал я мягко, — как-то уклонились в сторону. Давайте встретимся в другой раз, вот, на всякий случай, мой телефон в гостинице — Уже уходите, спешите? А телефончик-то зачем?
— Мало ли. Вдруг захотите пофилософствовать, Москву вспомнить.
— Голубчик вы мой, простите за фамильярность, да что же это вы на меня так смотрите, глазками сечете. Вы же не Шурочка, должны понимать. Я себе не враг. Перегудов, помнится, не глядемши мне заявление подмахнул. А теперь, когда пятки жжет, ко мне за помощью посылает. За кого же он меня принимает, извольте объяснить? За дрессированного кобелька, что ли?
— Он не посылал, Дмитрий Васильевич, я всех обхожу, кто имеет отношение к этому треклятому узлу.
— И обходите на здоровье, раз служба такая. И помните, Виктор Андреевич, узелок этот и приборчик — тьфу! — ничего не стоит. Я бы и голову не стал ломать.
Нехороший, знойный туман исходил от речей Прохорова.
— Я запомню, Дмитрий Васильевич. Звоните, буду рад. Просто так звоните.
— Может, позвоню. И… — он насупился, перестраивал что-то в себе, пиджак шуршал невыносимо, — и спасибо за добрые слова. На добро, как говорится, надо отвечать добром. Вы знаете, как рыба гниет?
— С головы?
— Точно. Не с хвоста, а с головы. Хвост, бывает, еще трепещется, а голова мертва.
— До свиданья.
Меленько затрясся пергамент лица, поклон, еще поклон, ныряние взгляда, улыбка, похожая на крокодилий зевок, — печальная картина, впечатляющее зрелище. Не для нервных. Какой симпатичный, до донышка сожженный человек. Кучка пепла. Так ли?
Живых не хороните, никогда не хороните живых.
Не подписывайте заявлений, протянутых дрожащей рукой.
Где все понять мне, тихо плачу я. У меня самого был почти инфаркт, когда Наталья без предупреждения укатила в ночь. Геройски я перенес его на ногах, до сих пор в левом плече немота и стрелы.
— Первый раз таким вижу Дмитрия Васильевича, — сказала Шура Порецкая.
— А какой он?
Нежный лобик спекся в долгую морщинку.
— Он обычно собранный, вежливый и… мало говорит. Да я и не думала, что он мое имя знает. Иногда с ним здоровалась, а он не отвечал. Пройдет мимо — глаза в потолок. Я со всеми первая здороваюсь, хотя положено мужчинам. Но ведь это производство, тут нет мужчин и женщин.
— Кто это тебе внушил?
— А разве не так?
— Господи прости, уж не сам ли Капитанов брякнул?
Шурочка, с которой мы, как всегда после очередной деловой встречи, обменивались мнениями в коридоре, вспыхнула:
— Что вы ко мне привязались со своим Капитановым? У него жена есть.
— Первая? — уточнил я.
— Знаете, Виктор Андреевич, не от вас бы это слушать.
Все-таки мы уже болтали как старые знакомые.
— Да я его не осуждаю. Я как раз тоже считаю, если одна жена надоела, надо ее менять.
— Фу, как с вами скучно.
— Женщины, Шура, больше ценят таких мужчин, которые, как угри, того гляди, ускользнут. А основательных, положительных дядек они в грош не ставят, считают их в душе за бросовый товар.
— Вас мало любили, Виктор Андреевич, — заметила она с прозорливостью гадалки.
— Верно, — кивнул я, тяжело вздохнув. — Меня обманывали, предавали, спихивали в грязь, выставляли на посм-ешище и любили мало. Можно сказать, вообще не любили. Однако я еще на что-то надеюсь до сих пор. Мечтаю еще иногда о чем-то.
По сочувственному выражению ее глаз я понял: она не разделяет моих надежд, считает их призрачными. Мимо нас, стоящих у окна, спешили люди на обед. Хлопали двери, жужжал лифт. Жаркий день резиново стекал через все щели. Любопытный штришок: Шурочка не оглядывалась, как вчера, не выискивала знакомых, с небрежной улыбкой терпеливо ждала, что я еще выдумаю. И ротик ее был полуоткрыт для того, чтобы не мешкая изречь свое осудительное «Фу!», «Ой!» и прочее. Ей было со мной интересно.
— Знаешь, Шура, — сказал я, — у меня голова болит. Я сейчас пообедаю и уеду в гостиницу. А вечером, может быть, мы погуляем, как ты хотела.
— Это не я хотела, а вы сами — Какая разница?
— После таких слов я никуда с вами не пойду, Я простился с Шурочкой, пообещав найти ее хоть на краю света, услышал в ответ привычное: «Фу, какие пошлости» — и отправился в столовую.
Голова и впрямь болела, и я догадывался от чего.
Как ни обидно — от побоев.
Озираясь с подносом в руках — куда приткнуться? — я заметил за столиком в углу любезного друга Петю Шутова, в одиночестве поедавшего шницель, Только о нем вспомнил — и вот он, тут как тут.
— Не занято?
Шутов видел, как я к нему продвигался, и успел приготовиться Равнодушная ухмылка, мерное движение челюстей. Человекоробот.
— Занято. Гостей жду.
Я отодвинул грязную посуду, расставил свои тарелки, сел. С удовольствием разглядел приличную дулю у него под глазом.
— А как, Петя, насчет матч-реванша?
— Чего?
— Того самого. Вчера-то вас двое было. А как ежели поодиночке?
Он опешил, заморгал, задержал вилку на полдороге ко рту. И вдруг добродушно оскалился:
— Я думал, ты в милицию заявишь. Такие, как ты любят милицию вызывать. Не заявил, значит? Чудно. — Он глядел на меня и наливался смехом, как яблоко соком. — Ишь напудрился, как шлюха вокзальная. Ох, умру! Матч-реванш? Какой тебе реванш, если у меня сердце остыло.
«Он мне не враг, — подумал я, — он мне друг».
— Слушай-ка, Петя-книгочей, а что, если я вот эту тарелку дорогого горохового супа не пожалею и вмажу ее — тебе в харю? Что ты об этом думаешь?
— Это серьезно?
— Шутя вылью. Для смеху.
— Куда прийти?
— В восемь вечера ко мне в номер. Только один, без шпаны. Или одному непривычно?
Шутов хмуро, растерянно кивнул, залпом выпил стакан компоту, двинул к выходу. Походка пружинистая, нервная, враскачку, как у гепарда. Руки вразброс. Не оглянулся.
И еще одно было у меня свидание в столовой — с Шацкой Елизаветой Марковной. Ну, не свидание, так, обмен любезностями. Я выходил, бережно баюкая боль в затылке, она входила, неся на лице светскую небрежность.
— Прибор все еще не работает, — сообщил я поспешно.
— Мне-то какое дело, любезный?
Ишь, как по-дворянски.
— Приятного аппетита.
— Всего хорошего.
Теперь в гостиницу, поспать бы часика потора, с Натальей потрепаться… Быстрее, быстрее…
20 июля. Четверг (продолжение)
Я начал думать о своем покойном дедушке. Эта командировка добром все равно не кончится. Один за другим являются ко мне образы прошлого, незваные, незабвенные. Мучают меня, зовут.
Отец матери, мой дедушка, — Сергей Сабуров — пережил отца на три года, я его хорошо помню. Даже после смерти отца он не переехал к нам, к дочери, жил в Мытищах в собственном деревянном домике, отшельником. Суровый нелюдимый старик, его таинственные словечки до сих пор слышу явственно, хриплые, прокуренные махрой: «Высвободилось чрево, высвободилось, ратуйте, люди добрые!»; «Невпригляд живете, невпригляд»; «Оскоромился, сокол сизый, да и дух вой…». И еще много он бормотал, гладя шершавой ладонью мою макушку. Что, о чем — до сих пор не знаю. Когда мы у него гостили (обычно летом, по выходным), дедушка всегда угощал нас красноватым салом и маринованными вишнями. Сало я не ел, я вишнями набивал живот до опасного урчания. Сам дедушка нарезал сало в тарелку мелкими стружками, заваливал сверху вишнями с соком, перемешивал и хлебал это странное блюдо как суп.
Одну историю он рассказывал постоянно, может быть, главный случай своей жизни. Про золото. Про тщетность устремлений. Про суету сует.
— Давно было, при царе. Мы в бараке жили, где теперь Валентиновка. Я по железной дороге работал, обходчик, а со мной рядом на нарах солдат спал, Щуплов Васька, криворукий, шебутной человек без роду, без племени. Гвоздь, а не человек. И видом гвоздь, и нравом. Где какая щель — там он непременно вклинится. Да и не солдат он был, конечно, а такодежда солдатская, шинелка штопанная, галифе рваное, сапоги дырявые. Гвоздь в казенном платье Спер где-нйто, не иначе. А утверждал, конечно, солдат, мол, по хворости списанный из рядов… Спали рядом, а дружбы промеж нас не было, какая может быть дружба: я человек рабочий, почти уже семейный, вскорости жениться собирался на Полине, дочери кондуктора, бабке твоей, а он — никто, сопля на воротах, нигде не работает, неизвестно чем промышляет. Иной раз валяется на нарах с утра до ночи, уйдешь — спит, вернешься на том же боку дрыхнет; а то исчезнет на день, два, бывало, на неделю. Где бродит — нам знать необязательно, но воротится сытый, пьяный, с котиной мордой, еще и с собой приволокет штоф да шамрвки. Хорошую еду приносил в мешке — колбасу, яйца, копченья разные. Я думаю теперь — бандит он был, обыкновенный бандит. И тогда знал, что бандит, только мне какое дело, у меня своя цель — хозяйством обзавестись, на ноги стать.