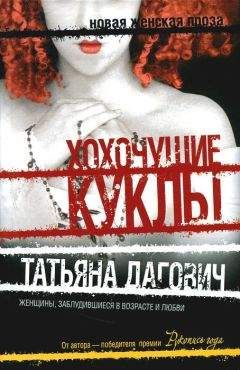Маргерит Дюрас - Плотина против Тихого океана
В те годы белые кварталы всех колониальных городов мира отличались удивительной чистотой. Чистота царила не только на улицах. Белые люди сами были безукоризненно чисты. Едва приехав, они сразу же приучались мыться каждый день, как моют маленьких детей, и носить колониальную униформу — костюм ослепительной белизны, цвета невинности и привилегий. Первый шаг был сделан. Белое на белом давало белизну в квадрате и увеличивало изначальную разницу между ними и прочими, которые умывались дождем небесным и илистой водой рек. Белый цвет поистине очень маркий.
В результате белые становились день ото дня все белее и сверкали чистотой и новизной, отдыхая от полуденной жары в прохладе своих вилл. Большие хищники в марком одеянии.
Здесь жили только те белые, которые сумели составить себе состояние. Улицы и тротуары центрального квартала были огромны — сверхчеловеческая поступь белых требовала размаха. Непомерное, бессмысленно огромное пространство было предоставлено небрежным шагам прогуливающихся властителей. А по проспектам, поражая своей бесшумностью, скользили их автомобили, полулетя на каучуковых шинах.
Кругом был простор, асфальт, на тротуарах росли деревья изысканных пород, а вдоль газонов и цветников тянулись сверкающие вереницы такси. Эти улицы, зеленые, цветущие, великолепно содержались, их поливали несколько раз в день, и они напоминали аллеи гигантского зоопарка, где редкие виды белых охраняют сами себя. Центр был святилищем белых. Там, в центре, в тени тамариндов, раскинулись огромные террасы их кафе. Здесь по вечерам они встречались друг с другом. Только в роли официантов допускались сюда туземцы, и то наряженные под белых: они были в смокингах, так же, как пальмы вокруг были в кадках. До поздней ночи, сидя в ротанговых креслах, в окружении пальм и официантов в смокингах, белые потягивали перно, виски с содовой или мартель с минеральной водой, создавая себе для полной гармонии печень истинно колониального образца.
Блеск автомобилей, витрин, политых мостовых, сверкающая белизна костюмов, ослепительная свежесть цветников превращала центральный квартал в волшебный вертеп, где белая раса могла безмятежно созерцать священное зрелище собственного присутствия в мире. В магазинах продавалась модная одежда, духи, американский табак — тут не торговали ничем утилитарным. Даже деньги казались здесь чем-то ненужным. Богатство белых не должно было их угнетать. Здесь все было возвышенно.
Это была великая эпоха. Сотни тысяч туземцев на ста тысячах гектаров выжимали кровь из деревьев, мешая ее со своей собственной и орошая ею все эти земли, которые по случайному совпадению уже назывались «красными» задолго до того, как стали собственностью нескольких сотен баснословно богатых белых плантаторов. Каучуковый сок тек рекой. Кровь тоже. Но ценен был только сок, его собирали, и он приносил деньги. Кровь пропадала задаром. Тогда еще старались не думать о том, что однажды люди соберутся в великом множестве и придут требовать за нее плату.
Трамваи старательно обходили стороной белый город. Да они были здесь и ни к чему, потому что все ездили на автомобилях. Только туземцы и белый сброд из нищих кварталов ездили на трамваях. По существу, именно трамвайные рельсы и были зримой границей белого рая. Они огибали его с гигиенической осторожностью, образуя окружное кольцо, где ни одна остановка не располагалась ближе, чем в двух километрах от центра.
Только здесь, с этой границы, в оглушительном грохоте белёсых от пыли, битком набитых трамваев, которые тащились как полумертвые под одуряющим солнцем, открывался второй город, не белый. Списанные в утиль в метрополии и приспособленные, естественно, лишь к условиям умеренного климата, эти трамваи были кое-как подремонтированы и пущены в ход матерью-родиной в своих колониях. Туземец-водитель натягивал по утрам форму, часам к десяти срывал ее, клал рядом и работал голым до пояса, истекая потом, так как на каждой остановке выпивал большую чашку зеленого чая. Это делалось для того, чтобы побольше потеть и охлаждаться на сквозняке — ибо среди водителей не было ни одного, кто хладнокровно не выбил бы в первый же день все стекла в своей кабине. Точно так же, впрочем, пришлось поступить и пассажирам со стеклами в вагоне — дабы остаться в живых. После принятия этих санитарных мер трамваи успешно ходили. Их было много, они были вечно полны и являли собой самый яркий символ подъема колоний. Расширение туземной окраины и все большее удаление ее от центра объясняли огромную популярность этого достижения цивилизации. Поэтому ни один белый, достойный сего высокого звания, не отваживался сесть в трамвай, рискуя, если его там увидят, навеки потерять лицо, лицо колонизатора.
В зоне, расположенной между белым городом и туземной окраиной, обретались белые, не составившие себе состояния и недостойные звания колонизаторов. Улицы здесь были голые, без деревьев. Лужайки исчезли. Вместо роскошных магазинов здесь красовались «соты для туземцев», — те самые, которые выросли всюду по взмаху волшебной палочки отца мсье Чжо. Улицы здесь поливали не чаще, чем раз в неделю. Они кишели детворой, играющей и пищащей, и бродячими торговцами, которые надсадно кричали, сидя в горячей пыли.
Гостиница «Централь», где остановились мать, Жозеф и Сюзанна, находилась как раз в этой части города, на втором этаже полукруглого здания, выходившего одной стороной на реку, другой — на трамвайное кольцо. Первый этаж занимали небольшие рестораны с комплексными обедами по твердым ценам, курильни опиума и китайские бакалеи.
В этой гостинице многие постояльцы жили безвыездно: несколько торговых представителей, проститутки, работавшие в одиночку, одна портниха и довольно много почтовых и таможенных служащих. Клиентами временными были уже известные нам чиновники, ждавшие возвращения в метрополию, охотники, плантаторы, морские офицеры с пароходов и, главное, шлюхи всех рас и национальностей, которые проходили здесь более или менее длительную стажировку, прежде чем получить место либо в борделе белого города, либо в одном из переполненных борделей порта, куда с регулярностью прибоя стекались экипажи всех морских линий Тихого океана.
Держала эту гостиницу старая колониальная жительница, шестидесятипятилетняя мадам Марта, перебравшаяся сюда непосредственно из портового борделя. У нее была дочь, Кармен, — она сама не знала от кого, — и, не желая, чтобы ей была уготована такая же судьба, мадам Марта за двадцать лет своих праведных трудов скопила деньги и купила у Общества колониальной гостиничной службы некоторое количество акций, достаточное, чтобы получить в аренду гостиницу.
Кармен было тридцать пять лет. Все называли ее мадемуазель Кармен, кроме завсегдатаев, которые звали ее просто по имени. Она была добрая и славная, к своей матери относилась с глубочайшим почтением и полностью освободила ее, причем без всяких помощников, от забот по сложному делу управления гостиницей «Централь». Кармен была довольно высокая, следила за собой, глаза у нее были маленькие, но ясные и ослепительно голубые. Она была бы хороша собой, если бы случайный папаша, не наградил ее, к несчастью, резко выдающейся вперед челюстью, которую отчасти скрашивали крупные красивые зубы, но она все равно так бросалась в глаза, что казалось, будто Кармен нарочно выставила ее напоказ, и это придавало ее лицу выражение плотоядное и ненасытное. Однако Кармен не была бы Кармен, неподражаемой и очаровательной хозяйкой гостиницы «Централь» если бы не ее ноги. Кармен обладала необычайно красивыми ногами. Будь ее лицо под стать ногам, она бы давно всем на радость жила в центре на содержании директора банка или богатого северного плантатора, купаясь в золоте и, главное, в скандальной славе, которую великолепно сумела бы выдержать, причем оставаясь самой собой. Но увы, Кармен могла похвастаться только ногами и, вероятно, была обречена до конца своих дней управлять гостиницей «Централь».
Большую часть времени Кармен проводила, снуя по бесконечному коридору, который упирался одним концом в столовую, другим — в открытую террасу, а вдоль него тянулись комнаты. Этот коридор, длинный полутемный туннель, куда свет проникал лишь со стороны входа и выхода, был словно специально предназначен для голых ног Кармен, и их восхитительный силуэт мелькал в нем целый день напролет. Никто из постояльцев гостиницы не мог оставить их совсем без внимания, как бы ни старался, а некоторых дразнящее видение ее ног преследовало постоянно. К тому же Кармен, видимо, желая взять реванш за несовершенство лица, нисколько, впрочем, не влиявшее на ее жизнерадостность, носила такие короткие платья, что из-под них виднелись даже колени. Колени у нее были идеально гладкие, круглые, гибкие и двигались безупречно, как на шарнирах. Таких ног было вполне достаточно, чтобы внушить любому желание спать с Кармен за одну лишь их красоту, за их умную манеру сгибаться и разгибаться, делать шаг, переступать. И охотников действительно находилось немало. Благодаря своим ногам и тому, как выразительно они двигались, Кармен имела массу любовников, и ей не было нужды самой искать их в белом городе. К тому же ее приветливость, отчасти происходившая от удовольствия обладать подобными ногами, была всегда столь искренней и притягательной, что ее любовники становились впоследствии верными клиентами гостиницы и возвращались сюда, случалось, даже после двухлетних странствий по Тихому океану. Гостиница процветала. У Кармен имелась своя жизненная философия, в которой не было горечи: она легко принимала свою судьбу и яростно противилась любой привязанности, грозившей повредить ее хорошему настроению. Она была настоящая «шлюхина дочь», привычная к приходам и уходам своих временных спутников, к тяготам заработка, одержимая неистовой жаждой независимости. Что не мешало ей иметь свои пристрастия, заводить дружбу и, разумеется, любовь, но при этом с готовностью мириться с ее непостоянством.
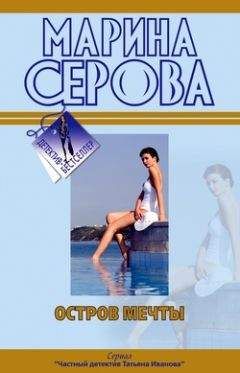
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](/uploads/posts/books/122606/122606.jpg)