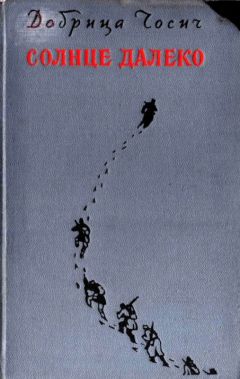Юрий Герт - Избранное
После одной из атак на журнал, которые постоянно повторялись во времена Шухова (он выдержал еще три года озлобленной травли после того, как "Новый мир" уже отставили от Твардовского...), Галина Васильевна, заместитель главно го редактора, ушла из журнала, чтобы прикрыть своим уходом Ивана Петровича, отсрочить его снятие... С тех пор она работала дома, писала, издавалась, храня редкостную независимость характера. Но в республике — единственный литературный журнал на русском языке, к тому же в нем планируется печатать ее новый роман. Стоит ли рисковать? — подумал я, хорошо зная наши нравы и принципы... Не очень-то здоровая и не очень молодая женщина, муж-сердечник... Да табун резвых жеребцов раздавит ее, забьет копытами! И все из-за меня?..
— Галина Васильевна, — сказал я в трубку, — я знаю, вы поступите, как сами сочтете нужным, что для вас мои советы... И все-таки — я не советую, я прошу вас — не делайте этого! Все аргументы я уже высказал Толмачеву, ничего нового вы ему не сможете выдать — только наступите на самолюбие, раздразните — и ожесточите против себя.
— Я подумаю, — сказала Галина Васильевна, Голос ее был тверд, резок, холодок обиды пронизывал его. Я увидел на мгновение темные, строгие глаза на полном, уверенно вылепленном лице, крутой подбородок, прямые, вразлет, брови...
Ну и дешевка же ты, — сказал я самому себе. — Неужели ты думаешь, что она... Неужели ты веришь...
Нет, я не верил. Я знал, что она не послушается никаких советов. У нее — своя логика. И эта логика мне понятна. Что же я прикидываюсь, лицемерю?.. Это норма. Как же от нее отговаривать?..
Норма... Разве норма перестает быть нормой в зависимости от того, сколько людей следует ей?..
Мне вспомнилось, как незадолго до самоубийства Ландау меня допрашивал следователь в республиканской прокуратуре. Был жаркий день в середине лета, но в кабинете с высоченным потолком, узким окошком и толстыми кирпичными стенами стояла благостная прохлада. Перед следователем лежал исписанный в столбик листок. Он зачитывал: "Александр Солженицын, "Раковый корпус". Жорес Медведев, "Лысенко и Вавилов". Евгений Евтушенко, "Автобиография"... Он зачитывал, я говорил: "Нет, не читал", и снова: "Нет, не читал", и снова: "Нет, не читал..." Список включал примерно около сотни рукописей, ходивших в самиздате. Они были обнаружены, у моего приятеля. А если точнее, то он сам их принес и сдал в КГБ после наставительной беседы со следователем — о происках наших врагов и способах подрыва советской власти. Мой приятель с юности страдал маниакально-депрессивным психозом, часто и подолгу бывал в психиатрической больнице, а выходя из нее превращался в очень деятельного (может быть, даже слишком деятельного), интеллигентного, широко мыслящего человека с живым, порой блестящим умом. И вот — болезнь сыграла с ним скверную шутку. С ним, а заодно и со мной. Поскольку мой приятель, отвечая на вопросы следователя, в числе тех, кому он разрешал пользоваться своей потаенной библиотекой, назвал и меня.
В традициях психологического детектива, твердя "Нет, нет и нет", я решил, для убедительности, два или три раза сказать "Да, читал". Кроме того, мне сделалось жаль следователя, который ожидал״ от нашей встречи многого, и вдруг — полное разочарование... Почему не порадовать человека, тем более, что это мне ничего не стоит?.. Позже я понял, что не слишком далеко ушел от своего товарища, хотя, регулярно навещая его в психбольнице, сам ни разу (пока!) не оставался там дольше, чем того требовали наши свидания. Впрочем, в те годы разница между психбольницей и тем, что вокруг, в некотором смысле была условной... Как бы там ни было, доставив некоторое удовольствие следователю (сознался я, стыдно сказать, в такой мелочевке, как Евтушенко и Жорес Медведев), я вышел из прокуратуры на вольный воздух, на улицу, где журчал арык, мчались машины, девушки в ярких платьях цокали каблучками по асфальту, и только тут понял, что свалял дурака, сам себя заложил. Но это еще ничего: решив доставить удовольствие следователю, я заложил и журнал. Поскольку Достаточно было упомянуть, что причастный к самиздату человек работает в "той самой редакции, которая...", чтобы не поздоровилось и редакции, и главному редактору, и последствия могли случиться самые непредсказуемые...
По нынешним меркам это может представляться натяжкой, но тогда... Тогда мои несколько запоздалые прозрения подтвердил другой мой приятель, юрист, хорошо знакомый и с правовой наукой, и с бесправием, свойственным положению каждого простого советского человека в эпоху развитого социализма. После разговора с ним я, не мешкая, отправился к главному редактору журнала, к нашему незабвенному Ивану Петровичу Шухову, и когда мы остались наедине, все ему выложил.
— Когда вы принимали в журнал человека, сидящего теперь перед вами, вы не подозревали, какой это идиот, да и сам он этого не знал. Я ухожу, Иван Петрович, увольняюсь по собственному желанию или как вы сочтете нужным. Другого выхода я не вижу. Редакции из-за меня предстоят большие неприятности. Мало того, что шьют самиздат: я — еврей, стало быть — сионист, идеологический диверсант, пособник израильских империалистов и прочая, и прочая... Что и кому тут докажешь?.. Я напишу заявление.
Иван Петрович слушал меня внимательно, не перебивая, не переспрашивал. Он сидел в кресле, упершись локтями в стол, сцепив морщинистые стариковские пальцы, опустив голову, так что я почти не видел его лица — только сивые, седые волосы на темени крупной, не по росту, головы... О чем он думал? Может быть, о том, что в те минуты не приходило мне на ум: куда я денусь, уйдя из редакции? Кто меня возьмет?.. Я давно не печатаюсь, после первого успеха все оборвалось, я прослыл диссидентом, теперь этот самиздат... Случалась, Шухов бывал у нас дома, разговаривал с моей женой, тестем, тещей, шутил, ухватив за нос дочку: "Какой холодный — как у охотничьей собаки!.."
Помню, я ждал его слов, но что бы он ни сказал, у меня будто гора с плеч свалилась: я рад был, что сам нашел правильное решение...
Иван Петрович помолчал, посопел, хмуря лохматые кустики бровей над мощными линзами. Наконец, я услышал:
— Не надо вам. Юра, никуда уходить...
— А журнал?..
Журнал, как "Новый мир" для Твардовского, был его, по сути, детищем, он жил им — впрочем, как и все мы... Но, глядя куда-то мимо, Шухов только махнул куда-то в сторону рукой — мол, что ж, двум смертям все равно не бывать... Видно, противно было ему — даже из высших, говорю без иронии, соображений — согласиться на предложенное мной...
И я остался в журнале...
А времена были серьезные.
Через неделю или две, замученный допросами и обысками, Ефим Иосифович Ландау бросился с балкона. В прощальном письме Бенедикту Сарнову он извинялся за то, что не успел закончить примечания к однотомнику стихов Эренбурга (в Большой серии "Библиотеки поэта"), который редактировал Сарнов. Письмо, написанное в свойственной Ландау суховато-ироничной манере, заканчивалось строчками из эренбурговской "Бури":
"Мы жить с тобой бы рады.
Но наш удел таков.
Что умереть нам надо
До третьих петухов..."
Проще всего манеру поведения связывать напрямую с интеллигентностью, культурой. Будто Фихте или Вагнер не были столпами культуры... Будто академики Углов и Шафаревич — не интеллигенты... И если Иван Петрович Шухов, на мой взгляд, был высшей пробы интеллигентом, то не количеством прочитанных (и написанных) книг, не образом жизни это определялась. В его характере, в своеобразном артистическом аристократизме его души мне всегда чудилось некое природное, из народной глубины идущее начало. То самое, в котором трудно все разложить по полочкам, разумно мотивировать. Почему?.. А бог его знает — почему, да только поступить надо так, а не иначе! И чем больше доводов, тем упорней желание сделать все им наперекор!..
Думая об Иване Петровиче, я вспомнил о человеке, которого никогда не видел. Звали его по теперешним стандартам странно — Афон. А услышал о нем я от Марии Марковны, матери моей жены. Молодость ее прошла на Украине, в Черкассах. Город во время гражданской войны переходил из рук в руки — от белых к красным, от красных — к петлюровцам, от петлюровцев — к "зеленым", бог знает — к кому еще. Что дольше всего хранит человеческая память? Воспоминания о войнах, пожарах, землетрясениях... В еврейской памяти живут погромы. Как-то, перебирая фотографии незнакомых мне людей, бережно хранившиеся Марией Марковной, я засмотрелся на одну — совсем юной, необычайно красивой девушки с рафаэлевским овалом лица, полными губками, большими черными глазами, мерцающими в глубине густых ресниц. Локон, завившийся пружинкой, повис у виска — там, на виске, казалось, пульсирует жилка... Чудо как хороша была девушка! Я заглянул на обратную сторону фотокарточки — и прочел написанное мелким четким почерком: "Маня (имя мне запомнилось, фамилия — нет), убита во время погрома".