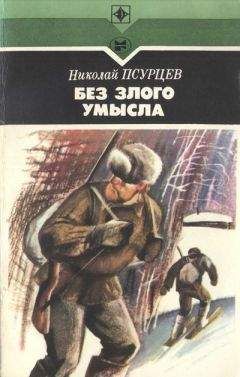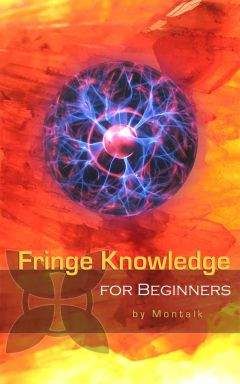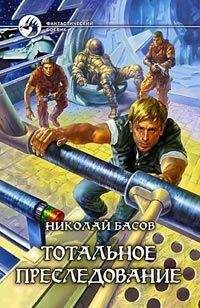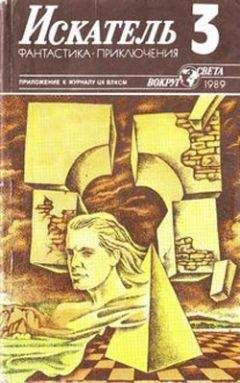Николай Псурцев - Тотальное превосходство
Пистолет дан мне в подарок. Для спасения моего дан или приготовлен специально для моего умерщвления? Кто подарил его мне, я не знаю. Предполагаю скорее всего, что Старик. Он живой или нет, Старик, Старик, поддельный или настоящий? Или он призрак обыкновенно? Или он всего лишь моя болезненная фантазия? Мои, так назовем их, художнические галлюцинации? Я должен узнать. Я должен отведать хотя бы ничтожную долю имеющейся о Старике информации, если Старик, конечно же, имеется сам, то есть если он есть, если он существует…
Я иногда думаю: а все ли для меня важно в этой жизни? Или, наверное, присутствует в ней, в жизни, все-таки что-то такое, что должно представляться мне совсем мелким, незначительным, ничтожным, не достойным внимания, любопытства, отвращения, ненависти, страха, любви и даже банальной доброжелательности. Для ощущения полноты жизни, мне кажется, и как пишут о том философы, психиатры и просто неглупые люди, требуется на самом деле, чтобы все вокруг было важным и неважным одновременно — потому как вот именно все то, что находится и творится вокруг, и составляет истинно саму нашу жизнь.
Вот, например, допустим, я полагаю, решаю, считаю, что этот вот человек, или эта, может быть, вещь, или тот — а почему бы и нет? дом или эта собака, кошка, белочка, или лошадка, или бог его знает кто там еще, или что там еще, что все это в данный названный конкретный момент мне вовсе и совершенно не нужно, и потому человека того я не замечаю, вещь выбрасываю или теряю, дома не вижу, а на кошечек, собачек, лошадок и белочек просто плюю…
Это сегодня. Это вот в данный, конкретный, названный час, минуту, мгновение.
Но завтра или тривиально и незатейливо через секунду может образоваться все так, что от этого же самого человека, от этой вещи, от этого дома, от этой ласковой кошечки, от этого шалого пса, от этой печальной лошадки и от этой испуганной белочки будет в реальности и строго, и безусловно, и, может быть, даже и ультимативно, будет зависеть благополучие и перспектива моего дальнейшего в этом мире и на этой земле проживания. Так происходило уже. Среди людей. Так случалось уже. Во все времена. И часто. Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды раз на нашей великой (пока, во всяком случае) планете.
Все важно и неважно одновременно. Все востребуемо и невостребуемо одновременно. (Любимый, почитаемый тобою человек может оказаться в результате для твоей жизни совершенно нисколько не значимым. Преданная собачка, ревниво тобой оберегаемая и тщательно тобою воспитываемая, так и помрет, когда придет ее время, не привнеся в твою жизнь никаких новых, решительных изменений. Родной дом рухнет вдруг, подточенный старостью, и через какие-то считанные дни ты с нипочем не ожидаемой легкостью забудешь о том, что он когда-либо вообще стоял на этой планете. И так далее и так далее…)
Я с легкостью в действительности могу лишиться в нынешней своей жизни, в первой по счету, во второй или в третьей, всего без исключения, любой ее составляющей, и без всякой печали и без каких-либо страданий… Это миф. Это просто так кажется, мы просто когда-то сами так захотели, так постановили и единогласно и с воодушевлением после проголосовали, что с кем-то или с чем-то нам расставаться будет когда-нибудь чудовищно трудно и невыносимо губительно. Все не так…
Я давно уже не ощущал такой событийной насыщенности и такой мистической, метафизической радости, такого глубокого возбуждения и такого ясного и уверенного понимания того, что я, несмотря на свою обязательную, неотвратимую, неизбежную смерть, все-таки тем не менее все равно буду жить вечно — и именно здесь, на Земле, а не где-то еще, далеко или близко, здесь…
Я понуждал свой неновый японский автомобиль, нажимая на его педали и манипулируя его рулем и его же соответственно коробкой передач, следовать настойчиво и навязчиво за самоуверенным и самовлюбленным американцем «хаммером».
В самой Америке «хаммер», наверное, смотрится буднично и привычно, хотя чуть-чуть, возможно, и экзотично.
И скромно еще, ко всему прочему, я полагаю, он в Америке выглядит и, бесспорно, приветливо, и, без сомнения, улыбчиво.
А вот в России он не терпит казаться скромным, улыбчивым и приветливым. В России он стремится отчего-то к насилию, власти и подавлению. И в России ему отчего-то делать подобное позволяют. В России слишком много, и слишком многим, и слишком часто прощают, и без всякого на то основания. (Я не знаю, признаться, от врожденного благородства прощают или от трусости. Не хотелось бы думать, что все-таки прощают от трусости, от врожденной, от генетической трусости.)
Я отпущу сегодня в отношении тебя, «хаммер», и в отношении тебя, разумеется, Старик, непредставимо большую бяку. Поверьте мне. Оба. Я обещаю…
«Хаммер» воинственно и грозно протащил себя до конца недолгой Тверской. Никто из рядом шедших автомобилей не сопротивлялся. Все подчинялись безропотно его, «хаммера», командам и указаниям, ты, мол, налево, ты, мол, направо, а ты, гад, сучий потрох, быстро назад, твою мать!.. «Жигули», «Москвичи», «Волги» и «Нивы» жались застенчиво к тротуарам. «Мерседесы», «ауди», «вольво», «БМВ» и всякие там еще фургоны и джипы сдержанно щерились вслед.
Вышли к Лубянской площади. Повернули налево. «Хаммер» оставался по-прежнему от меня в нескольких десятках метров. Я как ни топтал беспощадно и вредно педали своего японского автомобиля, ближе подобраться к «хаммеру» не заставил его, автомобиль свой, никак.
Пробивали вместе со всеми другими огромные дыры в дожде. Плелись плотно, почти фара в фару, почти зеркало в зеркало, терлись, казалось, плечами, касались вроде как друг друга локтями. «Хаммер» строил мне рожи за несколько машин впереди, за три, за четыре… Я приближаюсь. Я уже рядом…
Подумал в какой-то момент, точно не зафиксированный, что должен сейчас, судя по всему (судя по силе и убедительности намерения, во всяком случае), остановить машину, забраться в багажник и порвать в мельчайшие клочья лежащие там изображения Великого Старика. И растоптать их после, и вмять их суровыми каблуками в грязь, в лужи, в асфальт. А может быть, даже и съесть эти клочки. Хотя желудку, наверное, это совсем не понравится… Тогда лучше всего, видимо, будет сжечь эти клочки, а пепел, оставшийся после сожжения, все-таки съесть — сжевать, разбавить дождем и проглотить, подавив отвращение. Или нет, нет, нет, не съесть — глупо, нелепо, избито, банально, и невкусно к тому же, и для здоровья никак не полезно, — а развеять его, празднично и торжественно, над больной, полумертвой уже, едва с тяжким усилием пока шевелящейся, вяло и сонно на мир реагирующей, ничто и нипочем уже не желающей, ни к чему давно не стремящейся, и не нужной уже никому, и не возбуждающей, и не воодушевляющей уже никого, и не провоцирующей уже ни на что, и не питающей уже никого неким новым животворящим, заряжающим энергией опытом столицей нашей — Москвой… Как раз к месту такое случится. Это стильно — пепел шедевра над умирающим городом. И музыка вокруг непременно — Малер, Бетховен, Хренников, Матусовский…
И тогда Старик, возможно, исчезнет. А если не исчезнет все-таки, то я после, взявшись за уши, и затворив глаза, и выдохнув, вытряхнув из себя, жестко и ожесточенно, все оставшееся внутри меня дерьмо, много дерьма, я знаю, затхлого, вонючего, ядовитого, уберусь наконец отсюда, из этого города, от этих людей, от этих домов, от этих запахов, от этих красок к чертовой матери… Пусть даже к чертовой матери — там все равно будет лучше, чем здесь, я уверен. У черта, я слышал, отличная мать, худенькая, стройненькая, большеглазая, коротконосая, живет только для секса, трахается со всеми, кто к ней прибывает, и с восторгом, теряя пространство, нападая на время, — мне рассказывали очевидцы (кое-кто, между прочим, имеет силу и отвагу возвращаться оттуда)…
Или рано пока удирать мне из этого мира? Не убежден, что доделал все до конца. Не решил что-то главное. Что-то нужное не сумел реализовать до сих пор… Не знаю, не знаю, не знаю…
А Старик ведь и вправду может уйти, пока я буду сжигать его портреты и потом развеивать под музыку Яна Френкеля и Марка Фрадкина, Генделя и обязательно Баха по ветру, под ветром, до ветру пепел, образовавшийся после придуманной мной Казни и показательных Похорон. (Благо случится, если и вправу исчезнет Старик после того, как я наконец-то расправлюсь с портретами, а если все-таки нет, не исчезнет — а я к уходу из этого мира окончательно еще не готов.) Он уедет. Он пропадет. И я тогда ничего и никогда уже о нем не узнаю. Я полностью потеряю над ним контроль… Когда-нибудь он, конечно, объявится. Но только сам. Без личного моего участия. По собственной инициативе. Неожиданно и имея оттого преимущество.
Я требую, чтобы он исчез. Но я совсем даже не желаю, чтобы он уходил… Я обязательно и непременно, и это мой долг, и это часть моего Пути, того единственного, я убежден, по которому мне надлежит в этой жизни идти, должен понять и объяснить себе после, а кто же все-таки такой тот Старик, и откуда он, сукин сын, появился, и отчего и почему он так категорически и необсуждаемо — одно лицо, даже крапинки те же в зрачках (я видел, я видел, я разглядел) — похож на те портреты, которые я сегодня ночью с таким вожделением создавал и создал, написал, получив при этом порцию не опробованного еще ранее опыта и незнакомую доселе вспышку яростного эротического наслаждения (удовлетворения, утомления)…