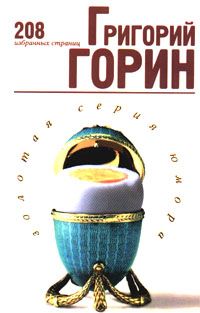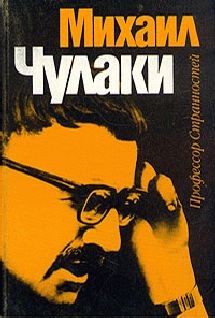Михаил Чулаки - У Пяти углов
Надо было уже ложиться. Но в любую минуту мог появиться Перс. Вольт был очень рад его приезду — но лучше бы он прилетел днем. А совсем бы хорошо: приезжал бы каждый раз нормальным утренним поездом. Но Перс всегда либо летит из Москвы, либо — еще чаще — едет дневным поездом: он не может спать в вагоне! Вот чего Вольт не понимал совершенно. Как это — не мочь спать?! Приказать себе — и прекрасно заснешь! Спит Перс не по четыре часа в сутки, а все восемь, если не больше, так что железнодорожное расписание для него идеально: лечь вечером в Москве и проснуться утром в Ленинграде. Вот сидеть шесть часов в вагоне — это глупо: и работать неудобно, и затечет все от долгого сидения. А главное: сколько теряется времени! Ведь день поездки уже пропащий, особенно когда поздно встаешь, как Перс; вот и получается, что иногда брат освобождается всего на три дня и из них два проводит в поезде. Столько ждали его — и всего один день остается на Ленинград — просто зло берет! И неужели не стыдно так потакать своей слабости: не умеет он спать в вагоне! Не стыдно чего-то не уметь, стыдно не пытаться научиться!
Вольт спит всего четыре часа в сутки, но зато эти четыре часа спит как следует: глубоко, в полном расслаблении — спать тоже надо учиться. И очень неприятно, когда тебя будят от такого сна. Но самолет может не вылететь до самого утра, так что совсем не ложиться в ожидании Перса тоже не имело смысла. Вот сколько неудобств из-за элементарной расхлябанности: неумения спать в вагоне. И ведь все связано: не умеет приказать себе заснуть, никак не может сдвинуться с девятнадцатой строфы.
Вольт был уверен, что уж мама-то давно спит. Но встретил ее около ванной.
— Ты подумай: до сих пор нет! Сколько он там просидит?
Вольт молча пожал плечами.
— И метро скоро закроется, и автобусы, а на такси ведь ужасные хвосты в аэропорту. Ты бы поехал его встретить. Обидно же: у тебя машина, а родной брат будет стоять среди ночи за такси!
Это было совершенно исключено: свои четыре часа Вольт должен был поспать, иначе он завтра не сможет работать. А пропажа рабочего дня казалась ему худшей из пропаж! Он уверен, что проживет никак не меньше ста пятидесяти лет, и в то же время всегда торопится работать так, будто боится не успеть. Да и тайные его боли в сердце — они сигнал, что увеличивать нагрузки опасно.
— Нет, не могу.
— А Петюнчик обязательно бы тебя встретил. Потому он до сих пор и переводит девятнадцатую строфу!
Слишком много раз Вольт сегодня сдерживался, но наконец его прорвало:
— Не могу я, понимаешь! Спать хочу! Ты что, хочешь, чтобы я куда-нибудь врезался?! То есть, если по пути туда, тебе все равно, но хоть подумай, что я могу врезаться и на обратном пути! Не довезти в целости твоего дорогого Петюнчика! Мама, конечно, засуетилась:
— Ну что ты! Как ты можешь! Что ты говоришь! Как ты можешь думать, что мне все равно! Нет, раз ты не можешь, раз устал… Извини, пожалуйста, но я привыкла, что ты всегда как железный… Конечно, спи! Я всегда говорю, что ты спишь слишком мало, изводишь себя.
— Я сплю достаточно. Больше не нужно, но и меньше нельзя.
Повернулся и пошел к себе, не сказав «спокойной ночи». Да и вряд ли ночь получится спокойной.
— Спокойной ночи, сыночек, — робко сказала мама. — Как ты можешь думать, что мне все равно?
Вот так: устрой скандал, накричи, что ты устал, — и тебя пожалеют; а если не жалуешься, значит, ты железный, значит, можно наваливать без зазрения — свезешь! Какая банальность. Вольт почти никогда не проговаривается о своих усталостях и болях, потому что это пошлость — жаловаться. Нужно без жалоб понимать, что другому трудно или больно, но редко кто понимает. Мама — нет. И все-таки было стыдно, что проговорился, пусть бы лучше укрепил свою репутацию черствого эгоиста.
А еще — даже сам не очень осознавал, что ревнует к Персу. Оказывается, вовсе не все равно, что Перса мама любит больше. Странно, обычно младшие дети любимые, а у мамы — старший. Так не обращать бы внимания, а Вольт ревнует, оказывается, — смешно.
Надя уже улеглась. Спросила сонно:
— Ну что там Нина Ефимовна?
— Да в своем репертуаре. Я должен всю ночь караулить в аэропорту, чтобы ее Петюнчик, не дай бог, не простоял час за такси. Такая пропорция: его час и моя вся ночь.
Надя сразу взбодрилась, — будто и не успела задремать.
Ты все делаешь для нее, и это не замечается. Будто само приносится, готовится, стирается. Не я, а ты.
— Я — это ты, пойми наконец! Я все делаю ради тебя, а не ради нее. Она с нами живет, а Петя появляется здесь раз в год на три дня — но все равно он такой добрый, такой заботливый! А если с ней что-нибудь случится?! Не дай бог, но при ее гипертонии вполне возможно — и мы будем при ней сиделками, а Петя будет любить и заботиться издали!
Все справедливо, ничего тут не возразишь… Но у Вольта правило: никогда не поддерживать Надю против мамы, даже когда Надя права. Поэтому он ничего не ответил, а Надя забормотала, засыпая:
— Завтра опять буду невыспанная. Когда я невыспанная, я совсем старая. Слышишь, да? Старая я!
Сколько можно это повторять?! Ну да, Надя старше, ей сорок лет — цифра и правда неприятная, хотя бы тридцать девять — совсем другое дело! И Надя постоянно твердит, что ей уже сорок, что она старая, что Вольт может найти себе другую, моложе. Поэтому Надя так упорно держится за свою комнату. У нее хорошая комната на Васильевском, и можно было бы обменять ее комнату и эту квартиру на трехкомнатную — были варианты. Но Надя всегда находила недостатки в предлагаемых квартирах, всегда возникали какие-то странные препятствия, а суть в том — хотя об этом ни разу не говорилось вслух, — что она хочет сохранить свою отдельную комнату, чтобы было куда уйти, когда Вольт найдет себе другую, моложе. И Вольт, хотя и не ищет другую — не тем у него занята голова! — наконец перестал подыскивать варианты, как бы молча согласился: пусть у Нади всегда будет в запасе своя отдельная комната. А пока комната пропадает; живут, правда, какие-то Надины подруги — вот кому повезло…
Она еще что-то бормотала, по обыкновению, в одеяло, так что половину и не разобрать. Да Вольт и не старался прислушиваться.
Проснулся он ровно в четыре, как всегда. И сразу вспомнил, что должен приехать Перс. Или уже приехал? Может быть, ему открыли мама или Надя? Вольт вскочил и выбежал в прихожую. Нет, пальто на вешалке не прибавилось.
Надо было работать — ведь наступили золотые утренние часы. Но не работалось: мешало ожидание брата, предчувствие праздника.
Вольт помнит это чувство с детства, когда Перс только что уехал в Москву и появлялся изредка — давно ожидаемый, столичный, взрослеющий с каждым приездом!
Тогда Перс всегда привозил из Москвы рассказы о невероятных успехах эсперанто, о скорой встрече с инопланетянами, могущественными, разумными и добрыми; инопланетяне, конечно же, тоже выучат эсперанто — не учить же им десяток хотя бы и считающихся великими, но все равно разделяющих человечество языков! — и Вольту, во всем верившему старшему брату, казалось, что на самом деле скоро наступит на Земле совсем другая, чудесная жизнь! И в этой новой чудесной жизни знаменитым человеком будет Перс. В то время у Вольта развилось бескорыстное честолюбие, если можно так сказать: он мечтал не о собственной славе, а о славе старшего брата!
Особенно запомнился почему-то один приезд Перса.
Вольт учился в седьмом или в восьмом классе, когда вот так же после многих обещаний и проволочек приехал брат. Зимой, на студенческие каникулы, но даже каникулы у него почему-то отодвигались. Он привез с собой зеленый фрак — оказывается, в университете ставили «Ревизора», и в этом зеленом фраке Перс играл Хлестакова, а теперь вот ходил в нем здесь по ленинградской квартире, и праздник получился вдвойне: оттого, что приехал наконец Перс, и оттого, что ходит в зеленом фраке! Мама ахала, восхищалась и сокрушалась одновременно: «Я же всегда говорила, что у тебя склонность к драматическому таланту! Помнишь, еще когда ты сидел в чалме на диване. И зачем тебе эти скучные языки, когда мог бы стать артистом? Наш Горбачев тоже так начинал: играл Хлестакова в студенческом театре!» В то наивное время Вольт тоже считал актерскую профессию почетной и завидной и поэтому жалел солидарно с мамой, что пропадает драматический талант!
Потом Перс ходил во фраке по знакомым и брал, конечно, с собой Вольта, и Вольт заранее торжествовал, предчувствуя, как все заахают, когда Перс снимет пальто, и ужасно переживал, когда в одном доме слабо ахали. И была у Перса одна знакомая — Даля, редкое имя, литовское, — которая за год перед тем вышла замуж за какого-то врача, хотя и мама, и Вольт давно были уверены, что на ней женится Перс; и вот когда пришли к ней, и Перс снял пальто и остался во фраке, Вольт очень надеялся, что Даля заплачет от досады на себя, но Даля сказала: «Ой, Петрусь, какой ты смешной!», а ее врач снисходительно усмехнулся; Вольт сразу же ее запрезирал и решил, что так ей и надо, пусть живет со своим лысым врачом, а Перса она недостойна!