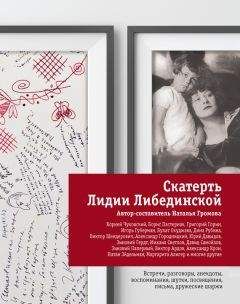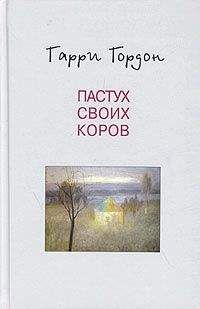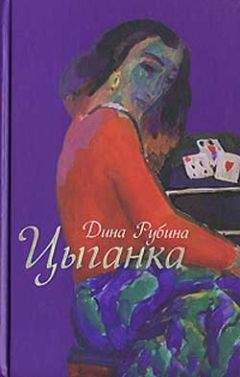Гарри Гордон - Пастух своих коров
— А я люблю, — сказал Леша. — Только… Фу ты йо!
— Что такое?
— Да крестик, зараза, раскалился.
— А ты сними.
— Нехорошо, говорят…
— Ты его на лоб натяни. На волосы, — посоветовал Шурик. — Вот, как шахтерская лампочка.
— А мой ничего, — пожал плечами Митяй.
— Твой серебряный, а у меня — золото.
— Положим, у меня платина, — рассмеялся Митяй. — А слыхали, Яков Семеныч собирается церковь строить? Здесь, у нас.
— Синагогу? — спросил телеведущий.
— Почему, — вступился Леша, — он хоть и некрещеный, а мужик нормальный.
— Какой же нормальный мужик захочет церковь строить!
— Ну, не церковь, а эту… часовню. А что…
— Дался вам этот Бог. Ему уж сто лет в обед. Он уже давно умер, — подзадорил Шурик. — Он же старше динозавров…
— За что люблю циников, — засмеялся Митяй, — они после парилки водку жрут. Пошли, мужики, там Нинка что-то приготовила.
— А видали, с утра сегодня, — сказал Леша, чтобы сменить тему, неприятную почему-то и тревожную, — видали, какой кортеж сегодня проехал?
— А что?
— Представляешь? Джип, потом девятка, потом еще три джипа. Гуськом, вдоль реки, в сторону Дома рыбака. А там — никого, только Клава, старушка, да Аня. Я потом на лодке прошелся — нет никаких машин. И назад не возвращались. И свернуть некуда — как сквозь землю провалились.
— А ты вчера как?
— Как стеклышко.
— Нехорошо все это, — нахмурился Митяй. — Проходной двор. Неужели и в нашей забытой Богом дыре начнутся разборки…
— Это ты правильно сказал — «Богом забытой». — В дверях предбанника появился высокий пожилой человек. — Можно к вам?
— А, князь, — обрадовался Митяй. — Раздевайся, иди погрейся. Пар сухой, можешь подбросить.
— С удовольствием, — сказал Георгий, сбрасывая рубашку.
Он был по-стариковски тощ, но на плечах лежали, как латы, гладкие загорелые мускулы. — Только я не пойму: сегодня Духов день, березками украшают жилища, а вы этими березками — да по бренной жопе!
— Что за Духов день? Как в сказке, — улыбнулся Благов. — Какого еще Духа?
— Святого, Леша, Святого. — Георгий снял носок и затолкал под лавку. — Я вчера бабу Машу спрашиваю: «Как ты думаешь, что такое Троица?» А она, не моргнув: «Это, Егор, Христос, Богородица и святой Николай».
— А на самом деле?
— Шурик, объясни им, — попросил Георгий заржавшего телеведущего.
— А ты, князь, откуда все знаешь? — удивился Митяй. — Ведь грузины — чучмеки…
— Шурик, объясни. — Георгий поднял рюмку, понюхал и отставил. — Кроме того, мать у меня костромчанка, дочь священника Богоявленского…
— Вздрогнули, — предложил Митяй.
— Без меня, ребята. — Георгий три раза присел, вытянув руки. — Я сначала попарюсь.
Он плотно притянул за собой дверь парилки. Послышалось кряхтение, стоны, а затем длинное густое пение:
— Не гулял с кистенем я в дремучем лесу…
Леша Благов замахал руками и вскочил. Над головами кружил шмель, нервное зигзагообразное жужжание раздражало, лишало смысла мерный расслабленный треп.
— Князь запустил, черт нерусский, — ругался Митяй, вспрыгивая с лавки на стол.
Наконец Шурику удалось прижать грозное насекомое трусами к оконному стеклу. Он осторожно приоткрыл дверь и вытряхнул шмеля на двор.
— Вздрогнем, мужики, — в тишине предложил Митяй. — За удачу.
После охоты на шмеля поубавилось легкости, расхотелось балагурить, и водка показалась лишней.
— Погреться, да по домам, — сказал Леша. — Надо же, — он приложил крестик к носу, — остыл. Холоднее рюмки.
Из парной вывалился клубящийся, как малина, Георгий. Вылил ковшик холодной воды на голову, разгладил брови и оглядел стол.
— Теперь можно.
— А что, — сказал Митяй, отрешенно жуя стебелек сельдерея, — может, и правда построить эту хрень? Скинемся. Я, Леха… Князь, правда, правозащитник с голой жопой… Шурик — безбожник…
— Отчего же, я дам, — Шурик с любопытством рассматривал присутствующих. — На всякий случай. Только надо, чтобы вся деревня скинулась. Чтоб все были замазаны. А так — неинтересно.
Благов заерзал на табуретке и разлил по рюмкам.
— Вы о чем? — спросил Георгий. — Неужели Яков Семенович раскрутил? — Он оглядел молчащих и вдохновился. — В таком случае, я двумя руками «за». Дело хорошее, дорогие мои. Денег у меня, конечно, нет, но я этими руками построил уже две часовни, на Соловках и в Карелии. Мне бы двух парней…
— Короче, — устало сказал Митяй, — подумайте, у кого какие предложения. А я спать пошел. Завтра соберемся. Штаб — здесь. И свет не забудьте выключить.
2.Георгий не был жителем деревни, даже временным. Несколько лет подряд он подолгу гостил у старого своего приятеля Якова Семеновича.
Неизвестно, когда и как прилипла к Георгию кличка «князь», во всяком случае, сам он и не заикался о своем родстве, скажем, с Дадиани или, чего доброго, Багратиони. Высокий, плечистый, седовласый — что еще надо человеку…
Всю жизнь Георгий боролся с тоталитаризмом. В семидесятые годы он стал литературным критиком-нонконформистом, защищал Твардовского и его «Новый мир», вступался за поэта Леоновича, открывал новые, нежелательные режиму имена. Им интересовались органы, собирались брать, но, видимо, не дошли руки. Сейчас, на пенсии, Георгий трудился в одном из фондов, посвященных политкаторжанам. Высокие общественные интересы загоняли его в командировки на Соловки, в Якутию, в Амурскую область. В свободное время он рыбачил, плотничал, иногда пел и, при случае, вдохновенно читал стихи заинтересованным девушкам.
Георгий добивал коммунистическое наследие всегда и везде, наболевшим чутьем отыскивая его порой отдаленные приметы. Удары его походили на удар футболиста по уходящему мячу — мяч получал новое ускорение и уходил слишком высоко и в сторону, на трибуны.
Гостя у приятеля, Георгий призывал его к активной жизни, размахивал спиннингом и сердился на тихую поплавочную жизнь.
— Занимаясь паустовщиной, — убеждал он, — ты никогда не вытащишь страну из рабства. Время кухонного сопротивления миновало. Смотри — коммунисты-оборотни прочно окопались на руководящих постах. Чего только стоит один книжный рынок!..
Яков Семенович молча отстранял спиннинг и насаживал червяка на крючок негнущимися пальцами.
Малоизвестный поэт Яков Деркач был на четверть евреем. В его родне были украинцы, белорусы, даже хорваты, но он и не думал сменить фамилию или взять хотя бы псевдоним, как советовали в редакциях, — чтил Яков Семенович память своего отца, тишайшего директора ремесленного училища в городе Гомеле.
В предвкушении пенсии он не чувствовал в себе никаких примет старости, наоборот — бросил учительствовать в школе, поработал строителем, сторожем, а в последнее время пристрастился к плетению берестяных изделий: хлебниц, солонок, туесков… Работа его продавалась иногда в художественном салоне, но дешево, себе дороже.
С апреля по ноябрь жил Яков Семенович в деревне, кормился рыбой, репкой и картошкой, писал стихи и медленно думал.
Ему не нравился разбег цивилизации, тем более новой, занесенной ветром перемен; он пытался остановить ее хотя бы в себе, и однажды это получилось, но тормозной след распахал его сознание надвое, а душу наполнил противоречиями. Охотно пребывая в одиночестве, пригласил Яков Семенович прошлым летом давнюю забытую знакомую, прожили они до осени складно и легко, и казалось, ничего уже не изменится. Она уехала в конце августа, а в ноябре, когда Яков явился с рюкзаком сушеных белых грибов, сказала: «Сядь», подняла на него изношенные глаза и сообщила, что встретила «истинного христианина».
Яков Семенович не был «истинным христианином», он и формально не был христианином — все время что-то мешало: сначала запретность — диссидентский холодок по коже всегда раздражал его, затем — поветрие, мода, а теперь, когда все устоялось, принять крещение мешало врожденное целомудрие. И сейчас, отстраняя спиннинг, он думал: как это может быть, что основная христианская добродетель не дает ему обратиться…
— Поздравляю, твои устремления упали на благодатную почву… Будем строить, — весело сообщил Георгий. — Толстосумы согласны.
«Какие толстосумы, какая почва?» — не понял Яков Семенович, а когда понял, рассердился. Часовня была отдаленной его мечтой, неясным звуком, несложившимся размером стихотворной строки, делом глубоко личным.
— Ты разве не мечтал?
«Наверное, где-то сболтнул по пьянке», — сокрушенно подумал Яков Семенович. Часовню надо строить одному, не торопясь: купить досок, сороковки, рассчитать, сколько кубов, — не сложно, самому заготовить бревна — простучать хорошо сухую ель. На купол пойдет осиновый лемех… Эти медленные соображения часто приводили ко сну Якова Семеновича, под шум ветра и лай дальних собак. Это будет когда-нибудь, обязательно, надо только накопить денег, какие наши годы… А пока в активе — две тысячи рублей. Задумана лодка, дощаник, не железяка какая-то, «казанка», и не фанерный штампованный ялик. Будет она черная, смоленая, в три доски, и назовет ее Яков Семенович «Анюта», по имени непутевой дочери. Братья Окуни из-за реки подрядились сшить, как раз за две тысячи со своим материалом. Надо только проследить, чтобы шпангоуты были из елового корня.