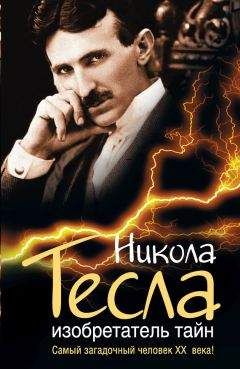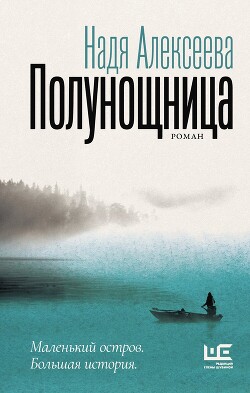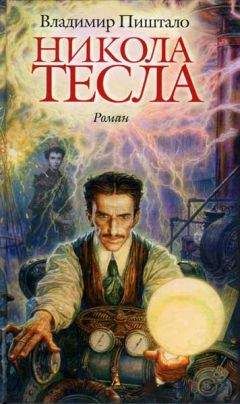Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
– Черный, говорю, не ваш ключ?
– Захлопни дверь потом, уважаемая, – татарин мотнул головой. – Только уж не забудь ничего.
– Нервное лицо, интересное лицо.
– Забудешь чего – назад не войдешь.
Когда за татарином, забравшим ее чемодан, чтобы отвезти к причалу, закрылась дверь парадного, Ольга всё еще была не в себе. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют, спят, иногда приезжает он, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный… Захотелось по-бабьи затянуть народную песню, где слова простые и вовсе не про тебя написаны, а душа разгадана верно. На немецком так не выходит, разве что в опере. Потому он и не учит другие языки, и хорошо.
В испещренном черными пятнами зеркале шкафа, куда Ольга заглянула, чтобы поставить точку, покинуть эту квартиру, она отразилась с полуулыбкой. Не то что бы счастливой, а сытой.
– Хоть раз в жизни, – сказала эта черненая Ольга.
Она достала из ящика листы с пьесой. Пробежалась по своим репликам – увидела все четыре действия, и старый дом, и одиночество желанной для всех женщины. Дребезжит гитара: это Телегин, рябой, никому здесь всерьез не нужный. Как и она.
Захотелось разбить это зеркало, рябившее лоб и щёки Елены Андреевны.
Ольга шла по набережной плавно, словно бродила в тоске по старому дому. Вывески, павильоны, экипажи застыли, будто декорация.
Она хотела сообразить, что́ скажет Чехову, как объяснит, что эта роль принадлежит ей не меньше, чем ему. Ночью, когда она ела арбуз – кисловатый, хрусткий, не тряпочный, – она была с автором, в его строках. Там они говорили обо всём: о мужике, погибшем у него под хлороформом, и о мальчике, который утонул в ее пруду. И в то же время Чехов сидел у ее ног какой-то взъерошенный, прищуренный. Живой. Волновался так, что ключи забыл.
Задумавшись, Ольга свернула во двор какого-то особняка. Беседка увита виноградом, внутри чаевничает семья. Темноволосая девочка вскрикивает, опрокидывает на себя чашку; мужчина, прихлопнув горячее пятно на ее рукаве салфеткой, выходит из-за стола навстречу Ольге. Она пятится, не зная, что сказать.
– Вы ко мне? К Синани? – отец семейства похож на грека или еврея.
– Нет, извините, я к Чехову шла.
– А я так дочери и сказал, – синие глаза смеются. – Кушай, Ева! Это…
– Ольга Книппер, актриса.
– Весьма приятно, весьма.
Ева ластится к отцу, по глади ее волос скользит солнце.
– Вы уж передайте Антон Палычу, – Синани слегка кланяется. – Матушка, Евгения Яковлевна, загостилась в Феодосии. Телеграмма мне в лавку пришла.
Этот Синани бог весть откуда приманивает экипаж, сажает Ольгу и просит заходить к нему в лавку: книги и писатели – его жизнь. Актерам тоже «безмерно рад». Переигрывает. Его жизнь – вот эта девочка, которой нужно приданое.
Калитка Чеховых – белая, тонкая, а замок – амбарный. Ольга постучала прямо замком по крашеным завиткам; сонный полуденный воздух в саду не колыхнулся. Она достала ключ из сумочки, отперла, вошла. Софочка говорила про Арсения с журавлем – хорошо бы на них не налететь. Она теперь гнала от себя прочь лихорадку реплик Елены: ей нужно толково объясниться. После того, что было, он обязан помочь ей получить роль. Проклятые деньги, чертовы наряды.
Вокруг дома по-прежнему тихо. Входной двери нет вовсе, только трепыхаются клочки газет, совсем крошечные, под гвоздиками, вбитыми в косяки. Оригинально. В коридоре промелькнула чья-то шаль. Кто-то покашлял, прошел из комнаты в комнату. Пахнуло горячим бульоном.
Ольга решила обойти дом: может, это какой-то черный ход, – а она не желает пробираться к Чехову как бродяжка. Завернув за угол, увидела на втором этаже полукруглое окно с цветными стеклами и приставленную к нему лестницу, под ней – ведро штукатурки, засохшей насмерть, вместе с кистями. Ольгу страшно потянуло к этому окну. Не задумываясь, она подобрала юбку, вскарабкалась, протерла зеленое стекло перчаткой, прижала нос. Чехов сидел за столом, аккуратно одетый, скорее грустный, чем задумчивый. Его пиджак светился травяным, солнце кружило изумрудные пылинки, а писатель становился всё мрачнее. Он быстро царапал пером бумагу, прядь то и дело лезла ему в глаза. Нос в профиль – чуть утиный, губы плотно сжаты. Казалось, он не пишет, а ныряет, боясь растратить, не донести до дна набранный вздох.
Ольга раздваивалась.
Одна уже едва не стучала в окно, желая обратить всё в шалость любовников.
– Ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах… Посадит деревцо – и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки, их нужно любить… – предостерегала вторая, Елена Андреевна.
Ольга неуклюже сползла с лестницы, побрела по саду, села на скамейку. Позади засыхал саженец: судя по листьям, начавшим желтеть, скрючиваться, – молодая груша.
– Вот так, ну да, погибает, – бормотала Ольга, бестолково перекладывая черный ключ из ладони в ладонь.
Достала из сумочки титульный лист пьесы, карандаш, которым делала пометки с интонациями, как учил Алексеев. Быстро-быстро набросала записку, обращаясь к Чехову на «Вы». Пароход уже гудел, отыскивая фарватер. Значит, до отплытия меньше часа.
Она еще раз обернулась на лестницу, что вела в кабинет. Потрясла головой, сложила лист вчетверо, и еще раз. Задумалась, где оставить. Так и не сообразив, прижала лист ключом, изобразила веревочкой с камнем вопросительный знак и быстро пошла в сторону набережной.
Чей-то увитый зеленью забор в белых лохматых цветах источал лимонный дух. Кто-то дул на блюдечко с чаем. Собака бранилась с собственным эхом.
– Проходите, милочка, что же вы встали? – на трапе ее прижала толстая генеральша со шляпной коробкой в руке.
Море было серым; Ялту накрыла знойная дымка. Ольга вдруг пожалела, что не поплавала, даже не заглянула в купальню.
Рукав обогнавшей ее генеральши теперь полз впереди по поручням: на белом – зеленый вышитый узор, травянистый, болотный. Как ряска. Ольге вдруг показалось, что рукав мокрый. Заторопилась, словно ее укачивает, хотя пароход не поднимал якоря.
В каюте Ольга сидела, зажав ладони ковшиком в подоле, меж бедер. Пахло тиной и горечью перемятой у того мостка полыни. Георгий, Георг, лежал щуплый, мокрый, как под дождь попавший, а она сначала трясла его, потом переворачивала, потом била по щекам, нажимала на грудь, чтобы выплюнул, наконец, эту черную воду. Потом подтащила его к себе, обхватила руками и ногами, как большую игрушку, и шептала, чтобы не бросал ее, что она пойдет работать и будут они есть шоколад…
Ей было пятнадцать, Георг – на три года младше. И плавал он лучше. Его забавляли отцовские тренировки, все эти закаливания и приказы сидеть под водой, набрав воздуху, и увеличивать «время погружения». Георг в это играл. Как дети – с азартом, с верой в то, что всё по-настоящему.
В тот день, уходя на службу, отец пообещал ему отдать свой перочинный ножик, если дотянет под водой до пяти минут. Прошлым летом они с Ольгой сидели по полторы и выскакивали, осенью и того меньше – тело начинало корежить. Потом Георг признавался, что один – сидит дольше. Без кислорода его охватывала эйфория, которую отец объяснял бодростью от закалки.
Вернувшись с курсов машинисток, Ольга искала брата по всему дому, затем пошла в сад, спокойно села у пруда, думая, что Георг еще в гимназии. Она болтала ногами, радуясь, что отец на службе. Вдруг вскочила: ряска уж больно кругло расступилась в пруду! Она уже догадалась, что́ там, когда из черного омута взбежала стайка пузырьков. Нырнула в одежде, обхватила брата за шею, вытянула на воздух. Когда волокла по траве, заметила, что один ботинок остался в пруду; отец прибьет.
Она не знала тогда, что не спасла, а просто вытащила брата.
Оказывается, ножик брат тоже взял с собой: смотрел на него, чтобы куража набраться. Ножик потом нашли под мостком. Или, может, отец со злости вышвырнул?