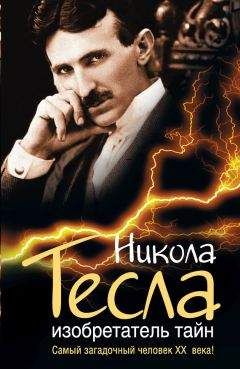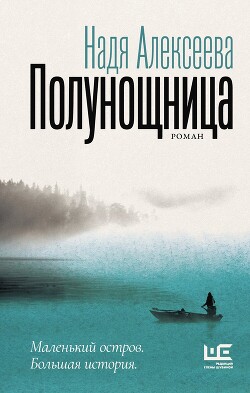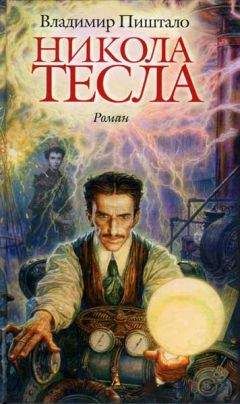Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
Когда Мапа вернулась, отец Василий уже рассуждал о еврейском вопросе, о том, что в его родной Греции живут без этих выкрутасов, и обещал познакомить Антошу с каким-то уездным архиереем, большим подвижником. При этом отец Василий перевирал все ударения и чуть гундосил. Проповедовал.
– Отец Василий, вам с сахаром?
Мапа спрашивала его уже третий раз, но старик то ли был глуховат, то ли и впрямь так увлекся разговором с Антошей. Абрамова теперь совершенно успокоилась. Богатство, которое угадала в ней Мапа, видимо, уберегло ее от еврейского вопроса. Чертами оседлости, куда едва не выслали Левитана, она не интересовалась.
Арсений, кашлянув, протянул Мапе записку: «Работаю. Не приду. Бунин».
Еще не легче. Мапа надеялась, что в обществе двух блестящих мужчин эта Абрамова раскроется, а в итоге пригласила девчонку в «святейший синод». Антоша тоже хорош: посерьезнел, подпер щеку.
– Софья Федоровна, так что у вас там в художественном театре? – спросила Мапа и кивнула Софочке: мол, ваш выход. – У нас тут такая скука: ни выставок, ни премьер.
– Зимой будет «Дядя Ваня», – подхватила актриса.
– Дайте угадаю: вы Елена Андреевна?
Софочка опустила глаза. Молодец! Ресницы у нее были темные, свои, не наклеенные.
– Отец Василий, – обратился Антоша к батюшке. – Вот на кого похожа Софья Федоровна?
Старик важно отставил чашку, отложил надкушенный пряник, утер усы.
– На голубя. Как это по-вашему? Бэлая го́лубка. Вот.
Антоша послал Мапе взгляд, словно телеграмму: «Съела?».
– О! У вас «Смит и Вегенер», – нашлась Софочка. – Хороший инструмент, я точно на таком училась. Можно?
Откинув крышку, Софочка заиграла что-то веселое. Антоша под столом постукивал туфлей, отец Василий, под шумок утянувший к себе варенье, едва не проглотил осу. Обозлившись, оса еще долго кружила над батюшкой. Но не жалила. Мапе подумалось: а что же вторая? Не справилась, захлебнулась? Под музыку она придвинулась к Антоше, зашипела ему на ухо:
– Но ведь Алексеев просил телеграфировать со дня на день, пора репетировать с Еленой. Вторая актриса болеет. Кого ты ждешь?
Антоша будто не слышал.
– Софья Федоровна, быть вам Ириной! – сказал он. – Первая сцена с вами будет именинная. Белое платье, офицеры, подарки, пирог. Хотите?
– Еще бы! – отозвалась Софочка, не обернувшись от клавиш.
Играла она и впрямь блестяще.
Только руки, пожалуй, крупноваты. Вот так, без перчаток, – заметно.
Вообще, Антоша прав. Она пока жеребенок.
– Так кто же Елена?
Мапа спросила прямо, громко: мигрень уже теснила левый висок. Софочка бросила игру, обернулась на стульчике. Отец Василий, закемаривший, встрепенулся.
Антоша перевел взгляд на священника:
– Батюшка, так где, говорите, мощи великомученика Федора Тирона?
– В Венэции.
По Аутке вихрем носилась пыль.
Повозка с обоями, выехавшая вчера из Севастополя, перевернулась за два участка от чеховского дома. Мапа с Арсением, что костерил татар на чем свет стоит, по рулону перетаскивали обои в сад.
Чехов, стоя на садовой дорожке, у захиревшей за две ночи груши, набросал в записной книжке:
«Любовь – остаток чего-то громадного, или часть того, что станет громадиной в будущем, а в настоящем она…»
– Антоша, ты как себя чувствуешь? – окликнула его Мапа.
Она стояла, обхватив руками рулон, обернутый в папиросную бумагу, рваную, точно воробьями поклеванную:
– Если не работаешь, поезжай в порт, встречай, пожалуйста, мамашу.
Арсений в охапке, как дрова, занес еще четыре свертка. Журавль подошел к забору, просунул между железными завитками голову и шею. Мапа зашикала на птицу, утерла лоб. На платке остался след: бурый, тоскливый; размокшая в поту пыль. Мапа перехватила взгляд Чехова, отвернулась к Арсению:
– Прикрой калитку за собой хотя бы! Птица сбежит, будешь горевать.
Арсений переглянулся с Чеховым так, как обмениваются взглядами мужчины, зная, что хозяйка не в духе и лучше пока исчезнуть с глаз долой.
Взяв шляпу и трость, Чехов не спеша побрел к набережной. Он думал про настоящее любви. В последние годы он всё ждал, что любовь состоится, переродится, изменится, A. будет рядом. Ее дети, муж – все как-то устроятся. Еще немного, и решение будет найдено. Однако всё зачахло, как росток его любимой груши, подковырнутый французским зонтиком.
В прошлом году спросил у матери, плакал ли он ребенком? «Никогда!» – гордо ответила мать, словно плакать грешно. Впрочем, он и сам не припоминал случая. Разве когда сальными свечами в лавке торговал, совсем маленький был, побежал в нужник, а там бродяга спать пристроился. Со страха ревел. Сейчас в горле першило и чесалось что-то в уголке глаза; должно быть, от пыли.
Пароход из Феодосии, где мамаша загостилась на время ремонта, пришел раньше срока. И вот уже полчаса, пояснили Чехову, махина примеривается причалить. Борта громадные для ялтинского порта, словно фрегат, запертый в бутылку. Море вдоль парохода пенилось шампанским без ярости. Гуляющие на набережной были редки, всех стянуло на мол. Трепетали перья на шляпках, маячили букеты, пожирала солнце золотая туба, взлетевшая над оркестром. Вдруг, в пятнистой толпе, – черный берет. Смотрит, как с образов. Сколько ни отворачивайся – найдет.
Чехов узнал темные волосы, белую кофточку, тонкую талию. Поискал глазами шпица – вероятно, на руках держит, в такой-то толпе. Ольга поднималась на цыпочки, кого-то высматривала впереди, махала. Шпиц был там, извивался на руках у какой-то девицы в громадной шляпе – отсюда не разобрать. И мамаши не было видно.
Чехов прошел поближе к Ольге; ему уступали, кланялись. Впереди оркестр грянул марш, по сходням спускались пассажиры, генерала с супругой, похожей на сыроежку, одаривали букетами, кричали «Герой Плевны!» и «Ура!».
– Выходит, сбагрили Балбеса, – сказал Чехов, протиснувшись к Ольге. – Боитесь, Бунин городовому нажалуется?
– Нет, – серьезно ответила Ольга.
Она еще раз посмотрела вперед, но пассажирка с собакой, видимо, поднялась на борт, направилась в каюту. Чехов щурился на прибывших. Те, кого не встречали, сбились к обочине с тюками, чемоданами. Одна женщина была похожа на мать, такую, как помнил в детстве. Устремившись было к ней, Чехов развернулся на полпути. Похожа, но не она. Дама с измученным, но гладким лицом без морщин устало села на свой чемодан.
Ольга стояла спокойно, ждала его возвращения. Вдруг захотелось, чтобы вот так, дома, его ждала женщина. Лежать ночью рядом, черная сеть волос, подушка со временем пропитается ее духами… Тут генеральская свита поглотила Ольгу: исчезли ее берет, белые плечи, внимательный взгляд. Стало страшно, что толпа унесет ее с собой, как река ничейный прутик. Он ввинтился в свиту, торил, извиняясь, себе путь, пока не схватил ее за руку и не выдернул из потока. Обнял, прижал к себе, потом принялся целовать. Сам не понимая, что делает и кто может их видеть.
Потом они молча, торопливо свернули на знакомую улицу. Чехов отметил, как стал ему нравиться этот район с отколотой тут и там штукатуркой невнятного цвета и татарскими балконами.
Этой женщине несуразность была к лицу. Копошась у входной двери, Ольга обронила из сумочки какую-то бумагу. Прошла внутрь. Чехов подобрал: вексель. В синем неверном свете рассмотрел фамилию: Книппер. Положил под сброшенный Ольгой берет.
Ее волосы, освобожденные от шпилек, рассыпались по плечам; их руки, путаясь, мешая друг другу, расстегивали пуговицы, дергали крючки, развязывали ленты. К пиджаку на полу полетели брюки, и юбка, и кружево. Зазвенели не то монеты, не то ключи. Пахло ванилью, коньяком, спелой примятой травой. Они не говорили – они дышали, захлебывались.
Ольга была совсем другая – и такая, как надо.
Цык-цык, цык-цык – дорожный будильник на столике застучал слишком громко. Раньше его будто и не было здесь. Чехов, уняв колотьбу сердца, увидал на столе пол-арбуза.