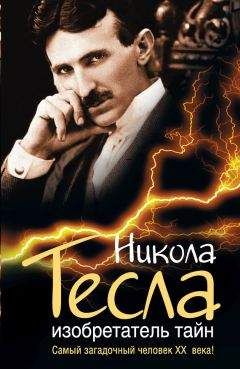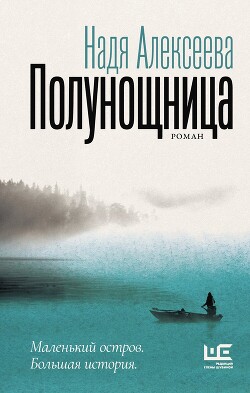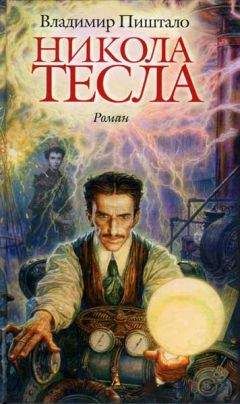Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
– Не слышит, – прошуршал Мартын. – Баб Мариночка, расскажи, как ты массажисткой работала.
– Я Сарра.
Застрекотали спицы. Мартын пожал плечами: бесполезно, бабку замыкает.
– Вы Книппер знали? Ольгу Книппер? Актрису.
– МХАТ, – вставил Мартын.
Он уже стоял у стола – слизывал варенье с ложки, прихлебывал что-то из чашки.
В дверь вплыл таз перемытой, очищенной от ботвы редиски, затем тетка в тельняшке.
– Теть Кать, бабка была массажисткой у Книппер или нет?
– Была, а как же. Та уже слепая сюда на машине прикатывала с водителем. Радикулит свой править. Ну чего, обедать будем? Мариночка, ты с нами?
Теть Катя потрясла бабку за плечо, та всхрапнула, встрепенулась:
– Я Сарра Абрамова.
– Ну, замучил ты Мариночку! – теть Катя зацокала языком. – Далась вам эта Книппер. Мне четыре года было, помню, розу сорвала в саду, поднесла артистке, как мама-покойница научила, – так она ее знаешь куда дела? Да выбросила!
Ане захотелось вступиться, рассказать про папашу-немца, и голодовку, и шипы, которые грызла Ольга.
– Выпроваживали меня всегда, и маму тоже, шушукались, – теть Катя повернулась к бабке. – Мариночка, чего шушукались-то, говорю? Померла Книппер твоя сто лет в обед. Хошь, паспорт тебе выправим на Сарру Абрамову? Сейчас хоть Земфирой назовись, всем пофиг. Завтра в загс схожу, да и всё. Редиску ждала, когда вызреет, так червяк завелся.
– Да хорош с редиской уже, – вдруг рявкнул Мартын. – Аня из телека.
– Из телека, значит. Есть будешь, Аня?
– Нет, я можно еще спрошу? – не дождавшись ответа, Аня присела на корточки возле бабки. – Софочка? Софья Федоровна Абрамова? Знаете ее?
Бабка заплакала. Точнее, лишняя влага вытекала из ее глаз, ползла по желобам морщин, собиралась к подбородку в тяжелую каплю, та падала на вязание.
– Ну вот что, молодежь, идите пока на мою половину, – тетя Катя похлопала Аню по плечу. – Мартын, там картошка, котлеты, угощай свой телик. Я подойду.
Мартын повел Аню во двор, по садовой тропинке они прошли на летнюю кухню. Там он погремел кастрюлями, обжегся о конфорку. Салат, без редиски, стоял на столе уже нарезанный, только заправить. Синий инжир в тарелке: на сладкое.
Аня ковыряла котлету, Мартын всё болтал, что крутая у нее работа и можно ли к ней устроиться, она что-то обещала… Потом тетя Катя пришла, сообщила, что бабка сегодня при чужих выкаблучивается. Когда протягивала Ане инжир, у нее слегка дрожали руки.
Мартын остался – собираться на поезд, Ане вызвали какое-то местное такси. Тетя Катя всерьез спросила: «Деньги есть?». Неделикатно, но было в этом что-то от медсестры. Умелая жесткая забота.
Мартын выбежал ее провожать, сунул в руку телефон, который Аня забыла на серванте. Ну конечно, разрядился.
В машине от ее промокших и сопревших кроссовок пахло грибами.
Аня была как пьяная, хотелось кофе погуще: чеховский мир вдруг заплелся в слишком тугую косу. Впрочем, ну знала эта бабка Книппер, потому что работала при театре, ну Сарру какую-то вспоминает, мало ли… Имя не уникальное. Может, и в театр приезжала зачем-то, в гардеробе сидела…
Улыбнулась, подумав про Мартына. Шустрый парень, только имя чересчур славянское: Мартын. Перестарались. Перестраховались?
Через час свернули в переулок, под татарский балкон.
Вспомнив, что Руслан должен звонить – он обещал сегодня решить с отпуском, – Аня расплатилась, выскочила из машины, почти взлетела на второй этаж, не разуваясь прошлепала в комнату и воткнула зарядку в телефон.
К чаю заявился отец Василий. Незваным и на час раньше. Мапа терпеть не могла такие ситуации. Пришлось спровадить его к Антоше в кабинет, пока они с Арсением прибирали газеты. Тут и там выстеленные по полу, листки подсовывали заголовки и сплетни: «Экипаж наехал на княжну Шиловскую»; «Томск захватили иудеи»; «Пожар во флигеле»; «Войны с Японией не будет!». Почему не будет и с чего война должна была случиться – Мапа прочесть не успела, Арсений выхватил разворот из-под носа и скомкал. Он никогда не читал.
Забежав в столовую, стараясь не стучать каблуками и дышать ровно, Мапа протерла пианино (Абрамова упоминала про консерваторию), поправила белую парадную скатерть, расставила стулья с избытком – в приличном доме знают, куда незваного гостя усадить. Шестой стул Мапа предусмотрела для второй актрисы, внезапно заболевшей. Впрочем, вряд ли та перетянет роль на себя, если выгодно подать Софочку.
Что же Бунин всё не идет? Ведь она еще утром оставила ему в гостинице записку.
Едва опустившись на стул, Мапа почувствовала, как устали ноги. Хотелось пожаловаться кому-то, что она встает раньше всех, ложится за полночь, прибирает во всех углах, – а где, где благодарность? Кроме Антошиного «Мапа у нас главная», она ничего не слышала.
Подняв голову, Мапа бросила взгляд на Николашину «Бедность», висевшую над пианино. На картине женщина сидела точно так же, как Мапа: устало висят ее белые руки, в бессилии прикрыты веки. Блестят только изразцы позади нее, камин на картине протерт до блеска, гордость хозяйки. А у нее, у Мапы, сегодня нет сил гордиться. Как ты всё угадал, Николай? Как ты предчувствовал?
Вспомнился старший брат, бледный, губы сжаты, венчик на лбу отчего-то задран, чуть вздыбил челку. Она сама отыскала лучший костюм для похорон. Тридцать лет. «Такой молодой», – причитали вокруг. Дело не в возрасте, а в том, что он был у Чеховых художник. Он, а не Мапа, которую учил живописи сам Левитан. Левитан. Левитан. Левитан сказал ей, что они схожи: ограничены с рождения. Он – тем, что еврей, она – что родилась девочкой среди пяти братьев. Талантливых братьев! «Таким, как вы, Маша, замуж не полагается», – говорил он, поглаживая ее пальцы, перепачканные краской.
Арсений поставил самовар, громыхнул чашками. Принес масленку, булочки, инжирный джем.
Даже слуги не учитывали ее настроение. Никто с ней не деликатничал. Мапа едва успела подняться со стула, подхватив норовившую вывалиться из пучка шпильку, как в столовую вторглись Антоша под руку с отцом Василием. И тут же Антоша принялся прилаживать к стене темный деревянный крест.
– На восток бы надо, – проблеял отец Василий.
– Батюшка, крест над пианино? – Мапа отметила и седые пряди брата, и белую гриву старика Василия, но захотелось их, как двух гимназистов, выставить играть в сад.
Опомнившись, она улыбнулась:
– Замечательная вещь, это из чего?
– Из кипариса, – Антоша все-таки вытянулся над пианино, пристраивая крест.
– Отец Василий, вы тогда не рассказали: купол храма какой будет? – Мапа чувствовала, что виски вот-вот сожмет мигренью.
– Серебристый! – Антоша засмеялся.
Отец Василий так и остался с открытым ртом, а Антоша всё кружил по комнате:
– Серебристый, а фасад белый, очень хорошо, что белый. Вокруг темные кипарисы, синее небо. Художница, подтверди?
Какая я, к чёрту, художница. Как есть швея. Ключница. Экономка. Так хотелось ответить Мапе. Этот новый проект с восстановлением храма великомученика Федора Тирона скоро наскучит Антоше – и все хлопоты лягут на нее. И не бросишь ведь. Храм.
– Мамаша приедет, она привыкла к обедне ходить, – не то жалобно, не то заискивающе сказал Антоша: даже мысли от него не скрыть. – Так что, над пианино приколотим?
– Добрый день.
Софочка стояла в дверях.
Про косы-то я забыла сказать, спохватилась Мапа: зачем она уложила их в прическу? Впрочем, так постарше выглядит. Может, и права.
– У вас там открыто было.
Мапу передернуло. Еще бы сказала: у вас там двери нет.
– Теперь мы вас без чая не отпустим, – Антоша, как был, с крестом в руке, заспешил к ней навстречу.
Это хорошо, отметила Мапа, и стол в порядке; только вот в джеме засели две осы. Не то делят что-то, не то вместе обедают.
Антоша жал гостье руку, представлял отцу Василию как «Софью Федоровну», советовался, куда повесить крест. Держа кипарисовое распятье на ладони, Софочка вспыхнула, стала малиновая с лица, отчего волосы высветились, будто свежая стружка. Отец Василий хотел было дать ей благословение, глядел на руки, которые актриса никак не складывала ковшиком. Антоша, наслаждавшийся сценой, вдруг сам ее и закончил, передал крест Мапе: мне в кабинет. Усадил отца Василия за стол напротив себя, а девчонку рядом.