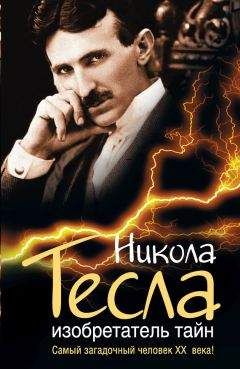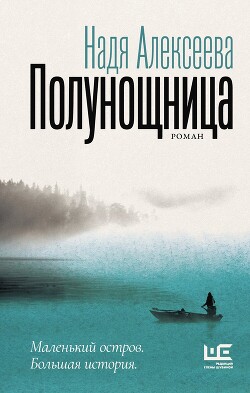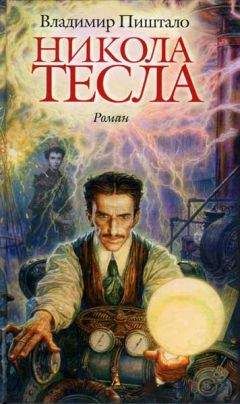Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
– Хлопочу, матушка, чтобы туберкулезную лечебницу тут учредить. Климат подходящий, но ни врачей, ни сестер, одни генеральши к нам едут.
Ольга знала, что Чехов и сам сильно болен, но сейчас его узкое лицо было загорелым и даже румяным от подъема по лестнице. Только дышал он тяжело. Как спортсменка, она это отметила. И стало жалко его обманывать. Но ведь она обещала брату, снимая с его сырого, холодного рукава прилипшую, точно уже вросшую, ряску: «Георг, ты потерпи, дыши только, дыши, мы скоро заживем, будем шоколад есть».
Ольга резко вскинула голову:
– Благодарю вас, нога в порядке. А вот квартира…
– Квартира вам очень идет.
Чехов поднял ее ногу с пола, аккуратно снял с нее домашнюю туфлю, поставил пяткой себе на колено. Колени у него были костлявые, а брючины – теплые: набрались уличного солнца, словно их утюгом только что прогладили; ступне было приятно.
– Вы не цыганка? – он сгибал-разгибал ее ступню, слегка надавливая пальцами.
В суставе что-то щелкнуло.
– Ай! Прабабка – венгерка.
Это была правда. Отцова бабка. Ольга, судя по портрету, была ее копия.
– Вальсируете?
– Прямо здесь?
Ольга захлопала глазами – показалось, Чехов ее зовет на танец.
– Я бы воздержался, ноге вашей еще хотя бы день дадим. Говорю, подъем у вас высокий.
Она улыбнулась, облизнула губы, собралась благодарить.
– С таким подъемом заживет быстрее, по моему опыту. Мышечный каркас, матушка.
Вдев ее ступню, словно деревянную колодку, в туфлю, он сел нога на ногу. Шпиц спрыгнул с дивана, свернулся под его стулом. Всем в этой комнате было уютно, кроме Ольги. Она вдруг поняла, что Софочка вот-вот явится. Если она была у Чехова на прослушивании, а он уже тут – значит, она либо празднует пирожными у Верне, либо пошла делать прическу: шампуни и возня с волосами смягчали ей нервы. А парикмахеры драли с Софочки двойную цену, жалуясь, что косы ее весят, наверное, по пуду.
Ольга смотрела на Чехова – и ее просто разрывало от любопытства, как прошли Софочкины пробы. Его чуткий взгляд что-то пристально искал в ней.
Они привстали одновременно, бросили «Я…» в унисон, осеклись. Шпиц, разбуженный, выскочил из-под стула, заворчал.
– Что же, Балбес, – сказал Чехов, потрепав его по макушке. – Береги даму.
Он машинально подобрал с пола шаль, протянул Ольге. Она накинула шелк на плечи, не выправила волосы наружу. Жест случайный: просто озябла. Ей показалось, что где-то прошла гроза, зашумел дождь. Захотелось зажечь лампу и спрятаться под пледом.
– Вот уже и сентябрь, – сказала она.
– Пожалуй, так лучше, – ответил Чехов в дверях.
– Как?
– Так, что я не знаю, зачем вы появились на набережной, – он поднял шляпу, вроде как надевая на голову, а вроде как предостерегая ее от ответа. – Не надо, не лгите. Пусть.
Обои в кабинете приклеились без пузырей и прочей ерунды. Арсений, в противоположность татарам, делал всё молча, зато на совесть. Не зря его журавль любит, подумал Чехов, – и тут же запнулся о кучу какого-то тряпья, оставленную на полу, видимо, всё тем же Арсением. Ветошь, что ли? Поверх лежала бумажная безрукавка цвета канарейки, под ней – рабочие тяжелые брюки. Синие, с тертыми коленями и накладными карманами в заклепках. Удобные, наверное.
– Арсений! – крикнул Чехов в коридор. – Забери вещи с пола, они к алым стенам не идут!
Усмехнулся. Всё еще держа штаны на вытянутой руке, понял, что Арсению такие брючины длинны. Да и безрукавка татарская, скорее. А может, и вовсе дамская? Точно надо прибрать: вернется Мапа с телеграфа – бог знает что подумает. Лавируя между сервантом, отступившим от стены, и диванчиком, вышедшим из своей ниши, Чехов разозлился на сестру. Перестаралась. Оплела газетами все безделушки на его столе, включая цейлонских слоников, точно паучиха. Мелюзга слов расползалась по всему кабинету, забиваясь в паркетные щели. А картины? Обе (Николаши и Левитана) упакованы, точно кому в подарок. Ленточкой осталось повязать.
Арсений не явился. И в саду его было не слышно.
Чехов прошел в коридор, сунул желто-синий ком в мамашин шкаф, который словно ожидал здесь хозяйку, и, понюхав свои руки, удивился, как у некурящего Арсения рабочая одежда провоняла не то каким-то лекарством, не то резким табаком.
– Храни, глубокоуважаемый шкаф, – Чехов запихал тряпье к дальней стенке, закрыл плотнее дверцу шоколадного цвета.
Спохватившись, вернувшись за галстуком, облюбованным заранее и спрятанным в том же шкафу, – он терпеть не мог выбирать одежду на скорую руку, – Чехов остолбенел. Желто-синий ком исчез. Будто его и не было никогда. Пальцы помертвели, из глубины полок пахнуло лавандой. Чехов завязал галстук простым узлом, заторопился прочь.
В городском саду, за своим излюбленным столиком сидел Бунин. Спину он держал прямо, и в то же время у него было сосредоточенное на себе лицо самоубийцы.
– Буду звать вас Букишон, не возражаете? – спросил, подсаживаясь, Чехов. – Видел иллюстрацию, был такой маркиз французский: красив, удачлив и черт знает на что способен.
– Рано стемнело, – отозвался Бунин.
В саду зажглись китайские фонарики – затея городового, явно устроенная для Чехова. От их света и впрямь наползли сумерки, будто морская вечерняя заря пестроты испугалась.
Чехов заказал красного вина с белым сыром, бараний шашлык, зелень. Почему-то не давала покоя эта безрукавка, неизвестно как пропавшая из шкафа. Если это нервное, то пить бы не стоило, но так, насухую, им с Букишоном нынче не разговориться.
– Ладно мне Ялта надоела хуже редиски, но вы только прибыли – и уже в мерехлюндии, – Чехов постарался никак не намекнуть на Одессу. – Это личное?
– Синани.
Ясно: не продал рассказы.
– Двадцать отзывов на книгу. Всего двадцать – и те какие-то пустопорожние.
Чехов молчал.
– Тираж пылится: и здесь, и в Москве.
– Иван Алексеич, у вас бывают сны наяву?
– Я давно не сплю. Хоть стреляйся.
– Написать бы вещь в духе «Тамани» да еще водевиль, – Чехов, вспомнив Софочку, усмехнулся. – Тогда не жалко помирать. Что-о? Стреляться?
Бунин возил вилкой по тарелке.
– Еще не хватало мне ваш труп вскрывать. Не больно-то интересно, – Чехов, едва кивнув посетителям за соседними столиками, ближе придвинул свой стул, зашептал: – Есть идея получше, как раз для Букишона.
Бунин вскинул бровь. Видно, хочет курить, но в присутствии его, туберкулезника, все воздерживаются. Чехов почувствовал себя стариком, от которого что-то скрывают.
– Да курите, если надо. И вина выпейте!
Чехов радостно смотрел, как Бунин пьет:
– А потом, пароходом, поезжайте на Цейлон. Деньгами я вас ссужу сколько смогу. Тесть ваш ведь рубля не даст?
– Цакни? Да что вы.
– Дело табак… – Чехов поднял бокал. – Ну и пес с ним.
Выпили.
– Путешествие вас встряхнет, после – напишете лучшие вещи, я вам обещаю. Я после сахалинской каторги на Цейлоне прямо ожил, а, если вдуматься, вы и есть каторжанин при жене. Качку хорошо переносите?
От вина Бунин размяк, но всё еще держал осанку. В саду заиграли скрипки: противно, протяжно, не к месту. На тарелку с сыром слетел лист платана, как старушечья пятерня. Чехов сдул его и закашлялся.
– Да… Мне бы скинуть десять лет, послать в шею актеров этих, – только меня и видели. Там луна такая встает… А пальмовые рощи, а индуски? Кожа темная и горелым пахнет. Вкусно, как кофе.
Чехов пустился рассказывать, как пересекал океан и вместо Японии, где бушевала холера, оказался на Цейлоне, как чуть не утоп в гостинице на побережье…
– Днем океан тихий, цвет какой-то невозможный прямо, а ночью в гостинице города Кэнди проснулся – мимо подушки туфли мои плывут. Буря налетела. А я, знаете, всё думал, как там индуска моя в бунгало. Затопило избушку, выходит, сегодня безработная?
Бунин засмеялся.
– Слоников моих фарфоровых видели? – Чехов понял, что вечер наконец оживился. – На столе письменном. Посмотришь на них – всё вспоминается, потому что всё – было. На джанирикчах ездил, бой мангуста со змеей видел, из храма, при вашем покорном слуге, зуб Будды выносили…