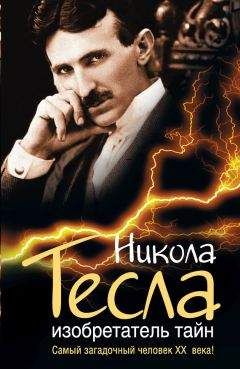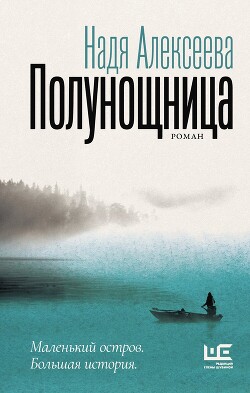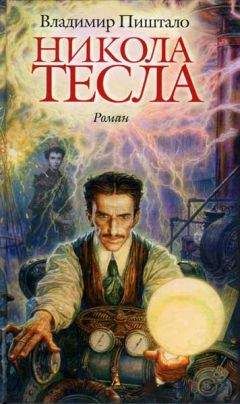Белград - Алексеева Надежда "Багирра"
Секундомер, зажатый в руке Георга, показывал шесть минут.
Вскрытие показало, что брат умер от кровоизлияния в мозг.
Аня вышла на балкон. Горы дремали, укрывшись туманом, рассветы стали прохладнее. Коты разбрелись по верандам, подъездам – брусчатка под окном пустовала.
Захотелось окунуться прямо сейчас, сунуть голову в холодное море, хоть на пляже у набережной – плевать, что порт, что грязь, что пленка на воде. Натянув купальник, прихватив хозяйское полотенце («не для пляжа!»), Аня у двери обернулась на мигающий телефон. Пропущенные от Руслана. Много. Она уже собиралась перезванивать, как подгрузилось сообщение: «Отпуск не дали, билет так не вернуть, сбагрил маме твоей. Прилетит двадцатого». И следующее: «Не ругайся». Аня сунула телефон в ящик, закрыла его со щелчком: словно еще не прочитала, словно ничего не было.
Море стелилось гладкое, смирное, лиловое. Какой-то чудак в шортах сидел по-турецки, жмурился на солнце. Его руки до половины предплечья – медь, дальше белизна. Волосы – мокрые, с прилипшей ко лбу прядью. Желтая майка скручена в ком с джинсами. Он кивнул Ане, как будто ждал ее. Она бросила свои вещи рядом.
Утопая ступнями в мелкой гальке, скрючившись от холода до боли в груди, вошла в воду. Валуны на дне поросли шевелящейся скользкой тиной. Втянув живот, чтобы их не коснуться, Аня поплыла брассом. Сколько могла, потом на спине, потом снова. Поднырнула ко дну, стараясь не закрывать глаза. Ступня нащупала слизь на камне. Аня оттолкнулась, всплыла.
Хорошо, если секунд сорок продержалась.
Проморгавшись, Аня заметила, что на пляже образовались островки пледов. Чудак теперь стоял по колено в прибое и махал ей желтой майкой.
– Он пришел в третий раз, – сказала Аня воде. – Нет, как же там было у Елены Андреевны? «При мне он был здесь уже три раза, но я застенчива и ни разу не поговорила с ним как следует…» Я в Гурзуф поперлась, а ведь вот он, тут.
Аня принялась грести, поднимая брызги. Берег заспешил ей навстречу. Рассмотрела шляпку девочки на пледе, донеслась музыка из колонки с надрывом – «Я-а-алта, парус, в этом мире…», а чудак натянул желтую майку, перекинул джинсы через плечо и ушел.
Выбежав, дрожа всем телом, Аня озиралась по сторонам, щурилась, подпрыгивала. Девчонка с пледа тоже принялась прыгать и беситься, подбрасывая свою шляпу. Облако, пришедшее со стороны Гурзуфа, перекрасило воду и город в светло-серый.
Аня ощутила, как затхло пахнет прибрежное мелководье, и поняла, что он больше не придет.
По дому бродит кто-то чужой. И хотя был полдень, Мапе стало страшно, будто ночью. Она, как была, в фартуке, заперлась у себя в комнате, которую в семье прозвали «капитанский мостик», села на кровать, прижав подушку к животу, и смотрела на дверь, боясь пошевелиться. Потом, спускаясь по лестнице, заглянув в щелку кабинета Антоши (пишет), объяснила свою нервозность духотой и заботами. За неделю ей дважды снилась входная дверь, она успевала на крыльцо до дождя, затворяла за собой с приятным двойным клацаньем. Цветом дверь была как черепица. И ботинки на Мапе были коричневые.
Журавль крикнул, прочищая горло. Будил Арсения. Мапа прошлась по саду, побрызгала водой, почти горячей в жестяной лейке, на бамбуковую траву. Розы распушились, тень их стала гуще. А вот скамейку не мешает протереть – обрывки обоев, что ли, прилипли? Или газеты? Подойдя ближе, Мапа увидела черный ключ, узнала его и камень с дыркой, который сама подарила Антоше. Присела на скамью. Глядя прямо перед собой, невозмутимая, как воровка, притянула к себе листок, ключ спрятала в карман фартука. Развернула записку. В глаза бросились постскриптум и подпись:
P. S. Евгения Яковлевна задержалась в Феодосии, телеграмма у Синани.
Ольга Леонардовна Книппер
Крупный почерк, без лишних завитков. Так пишут, когда знают, чего хотят.
Мапа уже пробежала глазами записку, уже всё поняла. Горько сглотнула свой проигрыш. И тем не менее заставила себя внимательно пройти все строки. Спускалась по ним, словно козьей сыпучей тропкой, упиралась в эту Книппер. Упиралась в нее.
Впервые в ее жизни проступил рок. Брат Николай, покойник, как-то за чаем замер и вдруг сказал, что умрет до Рождества. Теперь и она поняла, что не избежит этой Ольги.
Уважаемый Антон Павлович!
Я актриса, мхатовка, служу в труппе Алексеева. Приехала вместе с Софочкой за ролью Елены Андреевны. И пошла другим путем. Надеюсь, это Вы мне простите.
Роль
моя
настолько, что неуместно теперь просить ее, я живу ею и вашим слогом.Возвращаю Вам ключ…
Деревце у скамейки чахнет, но живет. Водой его отлейте как следует, оно сто лет протянет. Я эту породу знаю.
На обратной стороне было напечатано:
«Дядя Ваня»
Cцены из деревенской жизни в четырех действиях
– Арсений! – закричала Мапа, сминая и пряча лист в карман.
Заслышав шаги, заговорила тише:
– Ночи тебе не хватает спать! Вон груша чахнет, неужели трудно было полить вчера? Почему мне одной больше всех надо. Чего она там в Феодосии застряла, а он, он, – Мапа захлебывалась, путала слова. – Газеты! Когда это кончится, господи. Николаша!
Заспанный краснощекий Арсений смотрел на нее из-за роз. Мапа ревела, выла, утираясь смятым листом, фартуком, рукавами. Слёзы были противно жаркие, как та вода в лейке. Всхлипы корежили тело судорогой. Один, другой… Затихло.
Слёзы ее не очистили, не убаюкали. В семье Чеховых плачем не спасались.
За зеленым стеклом кабинета он краем глаза уловил знакомые цыганские черты и воротничок блузки. Снял пенсне, потер переносицу, обернулся – нет, лишь лучи, зеленый, красный, синий и белый, грели паркет. Рассказ, который он писал, вел его прочь из Ялты. В Москву, за женщиной, которая не могла и дня тут оставаться. Уже звонили колокола, пахло пирогами; бороды, ресницы покрывало инеем…
Последние полгода в Ялте его тянуло в Москву – походить по театрам, посидеть в гостиных, послушать разговоры, а не когда на тебя собирается публика и надо излагать что-то умное. Он не учитель, он врач. Он пишет. Взгляд пробежал по алым обоям; с усмешкой он вспомнил, как заказал для коридора бордовый линолеум, и как Мапа, раскатывая рулон, едва не велела стелить его обратной стороной – невзрачного, псивого тона. «Пройдет какой-нибудь месяц, и эта Ольга Леонардовна покроется в памяти туманом», – написал он. Вычеркнул имя-отчество с тем, чтобы заменить другими, не похожими.
В нише, куда был теперь вдвинут его стол, работалось хорошо: из окна было много воздуха, а сквозняку его теперь не достать. Идею Арсений подкинул, когда кабинет строили: «Загончик бы вам сгондобить, вроде курятника, несушки тоже сквозняков не любят». К дальней стене и софа встала удачно. Чехов поднялся; ему не хотелось писать, как в Москве забывается полуулыбка этой женщины. И в то же время она напоминала ему какой-то давно выписанный, отпущенный образ. Она была будто живая и выдуманная одновременно. Она точно с ним играла. И верила в свою игру, как дворовый мальчишка. Березовая чурка для него кобыла настолько, что, отстегав ее прутом, раскрасневшись, он уже гладит ей бок, жалеет, носом хлюпает.
Едва Чехов прилег на софу, закрыл глаза – в дверь дважды стукнули. Арсений. Покряхтел, потоптался, прошелестели под дверьми какие-то бумаги. Заскрипела под уходящим лестница. Каждая ступень отзывалась подошве по-разному, Чехову нравилось определять по скрипу, кто к нему идет. Задремывая, он вдруг вскочил: а если записка от нее? Заторопился, присел прямо на паркет.
Письма от Ольги не было.
Зато в руках у него оказалась телеграмма Алексеева. Восклицательные знаки. Умоляю решить! Премьера под угрозой! Кто играет Елену!? Остальное – «уважаемый», «привет от супруги», «подробности в письме».