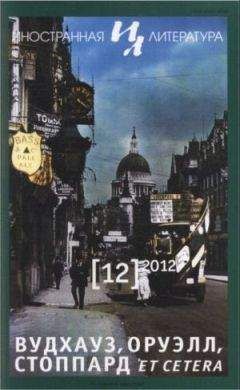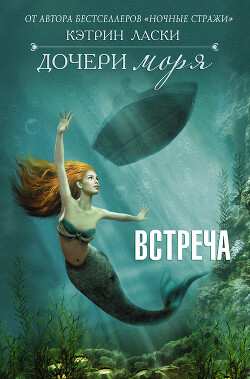Малыш пропал - Ласки Марганита
— Мсье говорит, если вы желаете, можно для начала подать паштет, а потом антрекот-гриль, фасоль и жареный картофель?
— Тогда я закажу все, — решительно сказал Хилари.
Служанка отошла было, потом вернулась и робко прибавила:
— Мадам сказала, вы поймете, что это en supplement [8]?
— Все в порядке, — сказал Хилари, ничего не понимая и не пытаясь понять. Он заказал бутылку дешевого красного вина и приготовился еще раз насладиться французской кухней.
Но не мог. Вчера вечером он поглощал превосходную еду с удивлением, с восторгом и вовсе не чувствовал себя хоть сколько-нибудь виноватым. Теперь же, отведав хрустящий, восхитительно жирный картофель, он поймал себя на том, что вспоминает малыша, который даже не был уверен, знает ли он, что это такое. Разрезая сочный кусок мяса, Хилари слышал слова матери-настоятельницы: «Мясо почти всегда для нас слишком дорого». Он глянул на двух мужчин за центральным столиком. Они тоже уплетали большие куски мяса, и, казалось, их нисколько не мучат угрызения совести. Это черный рынок, сказал себе Хилари, именно он, который всех нас так возмущал, из-за которого бедняки лишены самого необходимого. А потом он спросил себя: но что толку, если я сейчас откажусь от еды? Тем детям она ведь не попадет, она лишь достанется другим состоятельным людям, которые смогут за нее заплатить. И он ел, и спорил сам с собой, и знал, что следовало бы остаться голодным и уйти, но он не уйдет.
— Кофе, пожалуйста, — сказал он под конец.
— Настоящий кофе, мсье? — шепотом спросила служанка, и он кивнул, не желая выражать согласие словами; настоящий кофе был подан, черный ароматный французский кофе, и Хилари пил его и вспоминал приютскую бурду.
У стола появился человек в грязной одежде шеф-повара, его седые, коротко постриженные волосы свалялись по всей голове, маленькие голубые глазки близко поставлены, руки ни секунды не оставались в покое.
— Мсье доволен едой? — подобострастно спросил он.
— Да, благодарю вас, — с неприязнью ответил Хилари, надеясь, что эта личность уйдет, но тот не уходил, и Хилари заставил себя вежливо спросить:
— Вы — здешний patron?
— Он самый. — Хозяин наклонился над стулом Хилари и, старательно понизив голос, прибавил: — Что бы мсье ни захотел, ему стоит только попросить. А меню… сами понимаете, меню для видимости.
— Благодарю вас, — холодно сказал Хилари. Близость патрона была ему неприятна, но тот не уходил и все так же, вполголоса, заговорщическим тоном, продолжал откровенничать с Хилари.
— Опять увидеть англичанина — это все равно как в прежние времена, — уверял он Хилари. — До войны у нас много англичан бывало. И они часто возвращались из года в год.
Явно врет, подумал Хилари. Город отнюдь не на пути от побережья к чему-либо стоящему внимания. Хозяин склонился еще ниже.
— Мсье здесь в отпуске, да? — игриво предположил он.
Очевидно, мадам загодя поделилась с ним кое-какими догадками о том, где весь день пропадает мсье.
— Нет, я не в отпуске. На самом деле, я приехал повидать сынишку своего товарища, мальчик здесь в приюте, — нехотя объяснил он.
— А-а, — со слишком явным вздохом облегченья произнес мсье Леблан. И продолжал голосом, в котором слышались крокодиловы слезы: — Прямо сердце разрывается, как подумаешь о бедняжках, осиротевших в эту ужасную войну.
— Да, но у них, по крайней мере, есть уверенность, что их отцы погибли как герои, — многозначительно сказал Хилари. Он встал, мсье Леблан подскочил, чтобы отодвинуть его стул, и прошептал ему вслед:
— Помните, мсье, мы все готовы исполнить… только попросите.
Теперь пойду пройдусь, сказал себе Хилари. Потом загляну в кафе и выпью коньяку. Потом, когда в голове прояснеет, а душа очистится от мерзкой слизи этого червя, поразмышляю о сегодняшнем дне.
Взошла луна и сияла над унылыми домами. Хилари брел куда глаза глядят, по одной улице, по другой, мало что замечая вокруг, он хотел только провести время, пока не уверится, что первый пункт его программы выполнен и можно приступать ко второму. Подожду до следующего кафе, сказал он себе, потом миновал следующее кафе, и еще одно, и еще, — и наконец сел за ржавый железный столик на тротуаре.
Он заказал коньяк и вынул сигарету. Кафе было маленькое, захудалое. Среди людей, что сгруппировались за соседними столиками под тусклым светом покачивающихся ламп, не чувствовалось никакого оживления. Две девицы профланировали мимо в коротких клетчатых юбках в складку и длинных белых вязаных жакетах, остановились, удивленно посмотрели на него и, хихикая, склонив друг к другу головы, прошествовали мимо. Ему подали коньяк, скверное, слабое питье, почти вовсе лишенное крепости. Он потягивал коньяк, покуривал сигарету, опять потягивал коньяк. Постарался, чтобы коньяку хватило, пока не докурит сигарету, потом встал и двинулся обратно, к отелю, хотя знал, что еще только половина десятого, но он говорил себе, что день был утомительный и ночной отдых пойдет ему на пользу.
В постели, с книжками и пепельницей рядом на столике, он сказал себе: теперь надо поразмыслить.
Некоторое время он лежал, уставясь в потолок без единой мысли. Потом оказалось, он говорит: нет, я не хочу думать об этом сегодня вечером — все еще слишком близко, я слишком устал. Сегодня я немного почитаю, а потом усну.
Он взял со стола книжки и, глядя на корешки, гадал, на чем остановить свой выбор.
Читал он всегда быстро и больше всего на свете боялся оказаться без печатного слова. Он готов был читать что ни попадя, только бы читать, — обрывки спортивных новостей, разодранных в туалете, автомобильный журнал на столе в отеле, старую вечернюю газету, подобранную в автобусе. Он жадно смотрел на книги в руках у незнакомых попутчиков в поездах и вызывал их на разговор с тем, чтобы в конце концов предложить им свою прочитанную книгу в обмен на новую. Но если ему не повезло и читать было нечего, кроме какой-нибудь совсем уж ерунды — а все же хоть и никудышное, но все-таки печатное слово, — он впадал в уныние, делался несчастным, беспокойным, словно гурман, который после скверного обеда страдает от несварения желудка.
Итак, для этой поездки он намеренно выбрал книги за их объем, интересные толстые книги, на чтение которых могло уйти много часов. Он взял со стола всю стопку и гадал, на чем остановить свой выбор. Роман Генри Джеймса, что-то Пикока, Свифта, стихи Клауфа, которые он давно намеревался почитать, и «Домби и сын». Выбора, в сущности, не было. Он остановился на «Домби и сыне» и открыл его на сцене у постели маленького умирающего Пола:
«— Флой, а я маму когда-нибудь видел?
— Нет, милый, почему ты спрашиваешь?
— Неужто я ни разу не видел ласкового лица, Флой, какое было бы у мамы, если б она смотрела на меня — своего младенца?»
Хилари читал дальше, не до критических суждений ему сейчас было. В комнату больного ребенка вошла его старая кормилица.
«— Это мая старая кормилица? — спросил мальчик», — Хилари увидел молящие черные глаза, обращенные к приветливому лицу, и стал читать дальше:
«„Я и есть“. Какая сторонняя женщина, увидев его, стала бы лить слезы и называть его: дитятко дорогое, красавец ты мой, бедняжка мой болезный. Какая еще женщина склонилась бы над его постелью, приподняла его исхудавшую руку, и поднесла к губам, и прижала к груди, если не та, которая вправе была ее пестовать. Какая еще женщина…»
Книга упала на одеяло, Хилари уткнулся лицом в подушку и оплакивал одинокого бедняжку Пола Домби, чьи распухшие, красные, жалостные руки вытарчивали из слишком коротких рукавов черного комбинезончика.
Глава девятая
Вторник
Наутро Хилари проснулся в шесть и до половины девятого спокойно, невозмутимо, не без удовольствия читал Свифта.