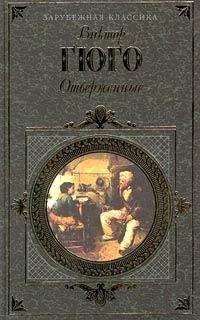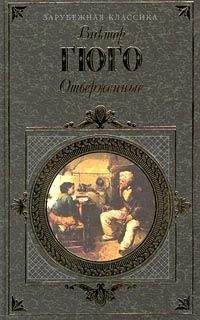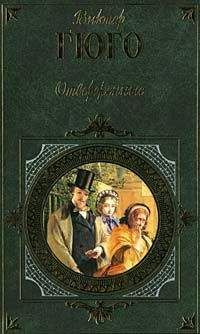Эрик Сигал - История любви
Стараясь вести себя «как обычно», я, конечно, позволял ей готовить завтраки и так далее.
– Сегодня увидишься со Стрэттоном? – спросила она, когда я доедал вторую тарелку хлопьев.
– С кем? – не понял я.
– С Рэймондом Стрэттоном, – повторила Дженни. – С твоим лучшим другом, бывшим соседом по комнате.
– Да, мы собирались поиграть в сквош, но я, пожалуй, не пойду.
– Глупо.
– Что, Дженни?
– Ты не должен пропускать игры. Я не хочу, чтобы у меня был дряблый муж, черт возьми.
– О’кей, – сказал я. – Тогда, может, пообедаем где-нибудь в центре?
– С чего это вдруг?
– Что значит – с чего это вдруг? – рявкнул я, пытаясь изобразить нечто, похожее на гнев. – Имею я, в конце концов, право сводить свою жену в ресторан или нет?
– Ну, и кто она, Барретт? Как ее зовут?
– Кого?
– Как это кого? Если ты по будням приглашаешь жену в ресторан, значит, ты кого-то трахаешь на стороне!
– Дженнифер! – взревел я, и теперь мой гнев был абсолютно искренним. – Чтобы я больше не слышал таких разговоров у себя дома за завтраком!
– Ладно, тогда поговорим у меня дома за обедом. О’кей?
– О’кей.
И я сказал этому самому Богу, где бы и кто бы он ни был, что согласен, чтобы все осталось как есть. Пусть я буду страдать, сэр, я не против. Пусть я буду знать все, лишь бы не знала Дженни. Ты слышишь меня, Господи? Назови свою цену.
– Оливер! – нетерпеливо произнес Джонас.
– Да, мистер Джонас? – ответил я.
Он вызвал меня к себе в кабинет.
– Ты знаком с делом Бека?
Еще бы. Роберт Л. Бек работал фотографом в газете «Лайф». Когда он снимал массовые беспорядки в Чикаго, его чуть не прикончили тамошние полицейские. Джонас считал это дело одним из важнейших для фирмы.
– Я знаю, что полицейские здорово его отделали, – бросил я. (Эка важность!)
– Я поручаю это дело тебе, Оливер, – произнес Джонас.
– Вы хотите, чтобы я… Сам?
– Можешь прихватить кого-нибудь из молодых ребят.
Из молодых ребят? Я ведь в фирме самый молодой.
Но я, конечно, понял подтекст: «Оливер, несмотря на твой возраст, в нашей фирме ты уже один из мэтров – один из нас, Оливер».
– Спасибо, сэр, – сказал я.
– Когда ты можешь выехать в Чикаго? – спросил он.
С самого начала я решил никому ничего не говорить – справлюсь со всем в одиночку. Пришлось наплести старику Джонасу какой-то ерунды, не помню даже, что именно, – мол, никак не могу уехать сейчас из Нью-Йорка, сэр. Я надеялся, он меня поймет. Однако мистер Джонас был явно разочарован тем, как я отнесся к столь важному знаку доверия. Если бы он только знал!
…Оливер Барретт Четвертый стал уходить с работы раньше времени, а домой возвращаться еще медленнее обычного. Не парадокс ли?
Дело в том, что у меня появилась привычка задерживаться перед витринами магазинов на Пятой авеню, разглядывая всякие дорогие и до смешного экстравагантные вещи, которые я накупил бы Дженни, если бы не надо было делать вид, что все у нас… как обычно.
Да, мне просто было страшно идти домой. Потому что теперь, спустя несколько недель после страшного известия, я заметил, что Дженни начала худеть. Нет, похудела она совсем немного – наверняка даже еще сама не заметила. Но я-то знал и потому все понял.
Разглядывал я и витрины авиакомпаний: Бразилия, Карибские острова, Гавайи («Бросьте все – летите к солнцу!») и т. д. В тот день компания «Transworld Airlines» рекламировала Европу в межсезонье: «В Лондон за покупками!», «В Париж за любовью!»…
– Но как же моя стипендия? А чертов Париж, где я так никогда и не побывала?
– А как тогда быть с нашей свадьбой?
– А кто говорит о свадьбе?
– Я. Здесь и сейчас.
– Ты хочешь на мне жениться?
– Да!
– Почему?..
Банк считал меня фантастически перспективным клиентом, и у меня уже была кредитная карточка «Diner’s Club[29]». Всего одна подпись, и в руках у меня оказались два билета (первого класса, а как же еще!) на самолет, летящий в Город Влюбленных.
Дома меня встретила Дженни. Она была бледная и какая-то посеревшая, но я надеялся, что моя блестящая идея вернет ей румянец.
– Миссис Барретт, угадайте, какую новость я принес? – сказал я.
– Тебя уволили, – сразу предположила моя оптимистка-жена.
– Не дождешься! С работы я не вылетел. А вот мы с тобой улетаем. Все выше и дальше – аж до самого Парижа. Завтра вечером. Вот билеты.
– Что за бред ты несешь, Оливер? – спросила Дженни. Но уж очень тихо, без обычной насмешливой агрессии. Даже с какой-то нежностью.
– Слушай, а что значит это твое вечное «бред»? Определи поточнее, пожалуйста.
– Это значит, Оливер, – тихо произнесла она, – что все будет совсем иначе.
– Что будет иначе?
– Я не хочу лететь в Париж. Мне не нужен Париж. Мне нужен только ты…
– Ну, это-то тебе обеспечено, крошка, – с притворной веселостью перебил я.
– А еще время, – продолжила она, – которого ты, увы, не можешь мне дать.
Я посмотрел ей в глаза. Они были невыразимо печальны. Но печаль эта была особая, понятная только мне: Дженни меня жалела.
Мы стояли молча, обнявшись. Господи, если один из нас заплачет, пусть заплачет и другой. Но лучше не стоит.
Потом она рассказала, как в один прекрасный день почувствовала себя «совсем дерьмово» и снова пошла к доктору Шеппарду – не за советом, а за ответом: да скажите вы уже, наконец, что со мной, черт побери! И он сказал.
Почему-то мне стало неловко, что не я открыл ей правду. Она догадалась и умышленно глупо вдруг сказала:
– Ты знаешь, Оливер, он из Йельского университета.
– Кто?
– Ну, этот, Аккерман. Гематолог. Сначала в колледже там учился, потом окончил медицинскую школу при их универе, как ты – Школу права.
– А-а, – протянул я, понимая, что она хочет хоть как-то облегчить то ужасное, что собиралась сказать. – Но читать и писать он, по крайней мере, умеет? – спросил я.
– Это я еще не выяснила, – улыбнулась миссис Барретт. – Главное, что он умеет говорить. Потому что именно поговорить я с ним и хотела.
19
Теперь я уже хотя бы не боялся приходить домой, потому что больше не надо было вести себя «как обычно». Мы снова всем делились, даже сознанием того, что наши совместные дни сочтены.
Нам надо было многое обсудить – вещи, о которых редко говоришь со своей женой: в двадцать четыре-то года!
– Я надеюсь, ты будешь сильным, как настоящий хоккеист, – говорила она.
– Буду, буду, – отвечал я, спрашивая себя, чувствует ли всегда и все понимающая Дженни, что великий хоккеист ужасно испуган.
– Это ради Фила, – продолжала она. – Ему придется хуже всего. Ты-то хотя бы останешься веселым вдовцом.
– Я не буду веселым, – перебил я.