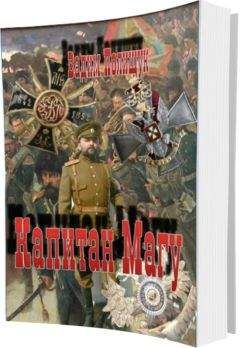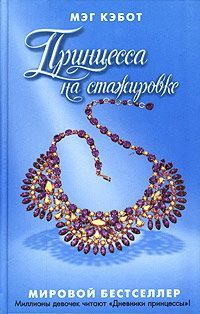Вероника Тутенко - Берлинский этап
Скрипом. Но снег казался горячим, какой-то белой горячкой.
Прошла уже, наверное, неделя, но он был так же горяч.
Хотелось увязнуть, не двигаться, но кони предательски мчались.
Нина стала отчитывать дни назад, как будто тем самым можно было и самой вернуться в прошлый, кажется, понедельник.
Да, а везли их, получается, во вторник — пятерых несчастных матерей и притихших, как птенцы, встревоженных детей.
Девочка, пришедшая на свет в красной сыпи и с диагнозом сифилис, теперь восседала на санях голубоглазая с выбившимися из- под шапки колечками золотых волос — ни дать ни взять принцесса. И имя мать под стать дала — Эльвира. А расти такому цветку, ждать освобождения матери в детском доме.
Размышления о судьбе маленькой красавицы на несколько секунд отвлекли Нину от собственного горя.
На руках зябко жался к материнской груди раскрасневшийся от холода Валерик.
— Где это видано, детей от живых матерей отнимать, — пискнула сквозь слезы Тося.
— Ты хоть помолчи, — цыкнула на нее Валька Косая, до сих пор сосредоточенно и хмуро сдерживавшая рыдания.
Но жалобы Тоси послужили сигналом, чтобы все мамы заголосили.
Как по команде заплакали испуганные дети.
— Но! Пошла, пошла, — заторопил извозчик кобылу.
Хлыст взмыл в воздухе. Каурая пустилась вскачь, увязая в сугробах.
— Тише ты, — сдвинул брови до сих пор молчаливый конвойный. С сочувствием посмотрел на матерей, хотел сказать им что-то ободряющее, но передумал.
Ехать оставалось недолго.
Детдомовские ясли, где подрастали дети заключённых, больше походили на казарму.
Новоприбывших годовалых появившихся на свет в неволе людей встретили няни с лицами надзирателей.
Самая старшая заносила данные детей в раскрытый на столе серый журнал.
— А отчество чьё называть? — угрюмо спросила Валька Косая. — Гада этого, урода, который?..
— Можете дать отчество по собственному отцу.
— Вот это лучше, — просветлело лицо Вальки. — Пишите «Иван Иванович».
Валерика записали «Аксенов Валерий Степанович».
В больничной палате было даже уютно, Нина помотала головой, чтобы изгнать вонзившиеся в память слова и взгляды.
Стала смотреть в грязный белый потолок. Видения отступили на задний план, остался только снег и доверчивое, испуганное лицо сына.
И снова этот скрип, приближающий расставанье.
… На этот раз скрипнула дверь.
Глаза дежурного блуждали по лицам больных, остановились на Нине.
— Аксенова, на выход. Там тебя оперуполномоченный ждёт.
Нина встала слишком резко и почувствовала головокружение.
Температура уступила место слабости.
На обратном пути из детского дома Нина сильно простудилась, что в другое время было бы даже приятно. Сейчас же хотелось работать до изнурения, чтобы к вечеру падать с ног от усталости и засыпать, не успев преклонить голову на нары.
Здесь, на больничной койке, тоска брала за горло и оставалось одно — плакать весь день напролёт, уткнувшись в подушку.
Вертушка со скрипом сделала оборот, преисполненная смехотворной важности, как будто она и только она решала, кому выходить, а кому нет на свободу.
Но именно ей выпала роль, даже миссия неким вращающимся символом пролегать между волей и неволей. Ха! Как будто нет побегов по бездорожью, где нет шпионящих глазков-окошечек, иногда и впрямь казавшихся живыми глазами беспощадного многоголового чудища.
Усилием воли Нина прогнала шальную мысль о побеге.
Мысленно отругала себя за ветреность. Ведь она теперь взрослая, мать.
У ворот стоял нетерпеливый худой понурый жеребец, запряжённый в сани с изогнутой спинкой, а за спиной извозчика кутался в овчину собственной персоной товарищ оперуполномоченный.
Взгляд его был добрый и чуть-чуть лукавый, как тогда в кабинете, когда Нину перевели из БУРа.
Тот вечер прокручивался пластинкой и в памяти Владимирова. Он усмехнулся и движением головы показал Нине на место на санях рядом с собой.
— Здравствуйте, — она не знала, что ещё сказать.
— Здравствуй, здравствуй, — он отодвинул овчину, лежащую, как домашний зверь, у него на коленях, укрыл тёплой шкурой ноги и Нине. — Передали мне, что ты всё время плачешь, вот и решил свозить тебя к сыну.
Скользить по снегу было весело, тепло и неудобно, Нина боялась сделать лишнее движение, сосредоточив все мысли на предстоящей встрече с сыном. Наверняка, Валерик успел подрасти. Узнает ли её?
Лошадь остановилась недалеко от детдомовских яслей, у маленького здания с вывеской «Магазин. Продукты»
Владимиров извлёк из кармана кошелёк, вынул из него хрустящую пятирублёвую купюру и протянул Нине.
— Купи вот сыну конфет или что там хочешь. Как закончится твоё свидание, найдёшь меня там, — он показал рукой на деревянный одноэтажный дом с некрашеными стенами, где тем не менее собиралось на какое-то важное заседание районное начальство.
За прилавком скучала продавец, как живая иллюстрация к анекдоту о том, что кислее всего в магазине.
С выражением лица кислее лимона женщина за прилавком недоброжелательно смотрела на вошедшую с мороза и нарушившую её вялый покой.
Ассортимент магазинчика был невелик.
Нина равнодушно скользнула взглядом по рядам с консервами, выставленными аккуратненькой крепостью.
— Вам чего? — грубо поинтересовалась продавщица с красным обветренным лицом и презрительным выражением глазок-смородинок, очень близко посаженных к носу — картошке.
— Шоколадных конфет…
На прилавке рядом с «Ласточкой» красовался только горошек, слишком твёрдый для неокрепших молочных зубов, как и карамель с клубничками на фантиках.
Продавщица деловито погрузила совок в грязно-серую картонную коробку.
Волнуясь, Нина открыла дверь яслей, такую же скрипучую, как вертушка на вахте тюрьмы.
«Кто вы и что вам надо?» — молча спрашивал взгляд сидящей за столом женщины.
— Я мать. Аксёнова. Принесите мне сына, — коротко попросила Нина и села ждать на длинную лавку в коридоре.
Ждать пришлось недолго. Женщина встала из-за стола, скрылась в коридоре и вернулась вскоре с Валериком на руках.
Валерик смотрел на Нину любопытно и настороженно.
— Здравствуй, сынок, — прижала к себе.
Валерик молча ждал, когда его отпустят. Оглянулся на няню.
— Я конфет тебе принесла, — достала Нина «Ласточку» из пакета.
Он испуганно смотрел на конфеты.
— Бери, не бойся. Они вкусные, сладкие.
По выражению лица сына Нина поняла, что конфеты он видит впервые.
Валерик осторожно взял одну «Ласточку», покрутил в руке и быстро догадался развернуть.
Конфета ему не понравилась.
Час пролетел, как минута.
— Скоро будет тихий час, — подошла няня и, невзирая на просьбы Нины позволить ей побыть с ребёнком ещё немного, унесла его обратно.
— У них режим. Ребёнок должен спать, — равнодушно встретилась сухими глазами с умоляющими глазами матери и тут же отвела взгляд в сторону, забыв о Нине.
Владимиров ещё заседал за неплотно закрытыми дверями с налепленным на них плакатом «Будем достойны Великой Победы», откуда поминутно доносились выкрики «Нет, товарищи так мы в светлое будущее придём нескоро» и «Надо улучшать производственные показатели по всем фронтам».
Владимиров попытался запоздало скрыть удивление, даже опустил глаза, но Нина уже успела прочитать в его взгляде «что-то ты рано» и тоже потупилась.
— Тихий час у детей…
— Ну поехали, — вздохнул опер, пропустил Нину вперёд на мороз.
Снова уютно уселись под одной на двоих овчиной. На обратном пути Нина уже почти не чувствовала стеснения, как будто они с Владимировым были знакомы много лет.
Приехали в лагерь уже затемно.
— Не будешь плакать теперь? — спросил на прощанье.
— Как вам сказать…. — Нина отвела взгляд в сторону, и всё равно чувствовала, как улыбка опера, дружелюбная и жалостливая, скользит по её лицу. — Спасибо вам большое!
До весны ничего больше не случилось, а весной умер Сталин. Почему-то то, что Сталин умер, было очень страшным. И странным, противоестественным даже. Он был везде, его имя повторяли повсюду, незримо он заполнял собой всё пространство огромной страны, и теперь она опустела.
Гудели заводы, нагнетая тревогу и панику. Лица, деревья, стены — всё вокруг стало страшным и зябким, ведь если даже Сталин умер, как беззащитно всё остальное. Время вдруг как будто увязло в болоте, и в этой вязи было вполне даже сносно, ведь за ней — неизвестность и страх.
Жизнь, тем не менее, продолжалась, и вскоре конвойный снова выкрикивал имена, как священник читает имярек, обещая счастливцам едва ли не вечное блаженство. И снова на лицах счастливиц поблёскивали слёзы радости, а у Нины не было даже слёз обиды. Только кусала губы в кровь и мысленно ругала себя последними словами за глупых два побега. Надежды на чудо уже больше не было, осталось ждать. И всё же апрельским хмурым утром в барак вошёл конвойный, развернул на пороге листок и провозгласил: «Аксёнова Нина Степановна!»