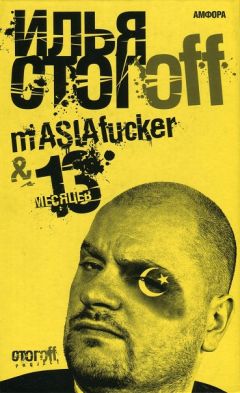Майкл Дибдин - День Благодарения
— Сказка.
— Угу.
— Ну, дело вот в чем. Ведь на носу День Благодарения, так?
— Разве?
— В четверг. Так вот, я и подумала, ведь путешествовать с трехлеткой не так уж легко, и будет очень одиноко…
— Ты хочешь приехать сюда?
— А можно?
— Конечно, можно. То есть я не знаю, смогу ли я раздобыть индейку. Французы индеек не слишком жалуют. Ну а тыквенный пирог абсолютно исключается. Но я сделаю что смогу.
— Это было бы так чудесно! А об угощении не беспокойся. Я его никогда особенно не любила. Но будет по-настоящему приятно провести семейный день вместе, ты же понимаешь? А ты — практически вся семья, какая у меня осталась.
— А как вы путешествуете?
— Главным образом на поездах.
— Отлично. Мы на линии из Ниццы в Марсель, но есть и несколько прямых поездов в Италию, если не ошибаюсь. Приезжай, когда захочешь. Просто позвони мне со станции, когда прибудете, и я приеду за вами.
— Чудесно. Будем где-нибудь в среду.
— А это когда?
— Что — когда?
— Я про то, какой день сегодня? Я тут в одиночестве немного запутался.
— Сегодня понедельник.
— Ах так. Послушай, Клер.
— Да?
— Что ты собиралась сказать про полицию?
— Расскажу, когда увидимся. А сейчас мне пора. К телефону целый хвост выстроился.
Я повесил трубку и только тогда испустил громкий стон, который удерживал, точно пуканье. Я пытался говорить весело, но, сказать честно, сейчас я меньше всего нуждался в том, чтобы Клер и ее сын навязались мне на неопределенный срок под предлогом близящегося Дня Благодарения. Прожив столько лет в Америке, я все равно не помнил число Дня Благодарения, не говоря уж о том, что он знаменует. Я припомнил, как приятель Люси долго распространялся про первопоселенцев и дружественных индейцев и о всякой псевдомифологической ерунде, что мгновенно вызвало у меня припадок ГСМ, по выражению журналистов — акроним, объединяющий симптомы (Глаза Стекленеют) с панацеей (Сматываюсь). Даже Люси не очень жаловала этот «традиционный американский праздник» и, как только дети покинули дом, свела с ним счеты, отказываясь ставить на стол что-нибудь, кроме нарезанной ломтиками индюшачьей грудки и салата, с тыквенным мороженым на десерт.
В моем уединении в Ла-Советт я был счастлив, понял я теперь. Ну, не счастлив, но спокоен. С Люси я быть не мог, и у меня не было желания видеться с кем-либо до того, как полиция явится арестовать меня. И меньше всего мне требовалось, чтобы у меня гостили молоденькая женщина с ее «проблемными горестями» и ее избалованный малыш на том основании, что я — практически вся семья, которая у нее осталась.
Суть заключалась в том, что отношения между мной и Клер никогда не были легкими. Как старшая из двух детей, она играла ведущую роль в стараниях внушить мне, что я нежеланный вторженец в доме посталленовской эпохи. Не только у них больше не было их папы, но мама связалась с этим жутким англичанином с дурацким произношением и не лезущими ни в какие ворота понятиями. Плюс — как будто этого было мало — они еще и… В любой час дня и ночи. Шумно. Я вспомнил услышанную от Люси сокрушающе точную оценку ситуации, сделанную Клер: «Раньше ты это оставляла для дороги, мама. А теперь ты притащила дорогу домой».
Эта фаза завершилась к тому времени, когда Клер уехала в колледж. Там она познакомилась с Джеффом, обманчиво обаятельным человеком, который словно бы никогда не успевал полностью сосредоточить свой взгляд и физически, и умственно, и в конце концов ушел к другой женщине, оставив бессвязную записку о нестерпимом давлении преждевременного отцовства, прикрепив ее к холодильнику с помощью буквы из магнитной азбуки Дэниела.
После этого я редко видел Клер. Люси, чувствуя мое равнодушие, по большей части ездила навещать ее одна, а когда мы все-таки встречались, она никакого впечатления на меня не производила. Обоих детей Люси характеризовало замедленное развитие во всех отношениях, и личность Клер все еще казалась подростково-аморфной и вторичной — несомненная версия ее матери, но без того не поддающегося определению качества, благодаря которому Люси искрилась жизнью. Мне было жаль Клер, но что-то в ней приводило мне на ум бокал шампанского, которое выдохлось на солнце.
Быть может, все эти мысли дали толчок прозрению, ошеломившему меня день спустя. Я расхаживал взад-вперед по кухне в халате и носках, курил и пил. Я вполне отдавал себе отчет, что в ожидании приезда Клер мне следовало бы заняться уборкой свинарника, в который я превратил дом, но мне никак не удавалось раскачаться. Слишком много требовалось усилий.
Мой отец и слышать не хотел о телевизоре в Ла-Советт, а радиоприемник в лучшем случае одолевали помехи. И единственную передачу, которую мне удалось поймать в этот вечер, я бы сразу отмел, будь у меня выбор — только придешь к выводу, что поп-музыка ну никак не может стать хуже, как появляется французский рэп. Но тишина в доме стала слишком уж невыносимо тягостной.
И вот тогда-то у меня впервые на миг возникла мысль, настолько нестерпимо гнетущая, что я тотчас отгородился от нее, по-детски закрыв лицо руками, лишь бы не видеть то, что с самого начала было очевидным. А именно: мой навязчивый интерес к тому, какой была Люси до нашей встречи — ее внешность, ее любовники и все прочее, — представлял собой всего лишь диверсионный маневр, предназначенный оградить меня от прозрения, слишком горького, чтобы его вынести. Я любил Люси не за то, что могло и теперь утешительно хранится на фотографиях, в аудио— и видеозаписях, но за нечто, не поддававшееся запечатлению, которое теперь исчезло навсегда.
На самом деле меня никогда особенно не интересовали фотографии двадцатилетней Люси или сведения о том, какой она была в постели, или даже фантазии о детях и жизни, какую мы могли бы прожить вместе, если бы я принял приглашение Алексис Левингер. Не ту Люси я оплакивал, а ту, в которую влюбился, именно такую, какой она была — никем и ничем не заменимая.
Изнемогая, я пытался прибегнуть к магии слов, чтобы точно определить, в чем заключалось это качество. Называя вещи, подчиняешь их себе, но названия я не находил. Наиболее близким, что мне удалось найти, была «стремительность». В любом проявлении ее личности — в интеллекте, юморе, занятиях любовью — Люси была непринужденно быстрой и точной. Вот чего при всех их прекрасных качествах роковым образом недоставало ее детям. Стремительность и смерть. Она была стремительной, теперь она была мертвой. Конец истории.
В середине ночи я проснулся от настороженности всех чувств. Что-то позвало меня, но я понятия не имел, что именно. Я проконсультировался со своим мочевым пузырем, но безрезультатно. Насколько мне помнилось, никакие поражающие или пугающие сновидения меня не посещали. И все остальное казалось нормальным. В комнате стояла непроницаемая тьма. Ветер все еще теребил дом снаружи.
Тут я осознал два момента, и у меня по коже поползли мурашки. Во-первых, полная темнота в комнате. Перед тем как лечь, я зажег фонарь над входной дверью — элементарная предосторожность, на которой настаивал мой отец. Спальня находилась над входной дверью чуть сбоку, и на стенах и потолке лежали еле заметные отблески, пробиравшиеся сквозь щели ставень. Но сейчас их не было. Однако по-настоящему меня испугало другое. Накануне мистраль прекратился, когда погода изменилась и стала безветренной. Звук, который я слышал, был похожим, но другим — басистее, непрерывнее, но также более интимным, более домашним. Мне потребовался еще десяток секунд, чтобы сообразить, почему это так: он доносился изнутри дома.
Я никогда не считал себя особенно смелым, но порой любопытство оказывается сильнее страха, а меня одолевало любопытство. Я выбрался из-под одеял, которые спутывали мне ноги, и встал.
Первый шок был чисто физическим. Мои ступни сразу стали холодными и мокрыми. Пол, казалось, покрывал тонкий слой какой-то ледяной жидкости. Я протянул руку к лампе на тумбочке и нажал на кнопку. Лампа не загорелась. Я прошел через комнату вслепую, выставив перед собой руки, нащупал стену напротив кровати и вдоль нее добрался до двери. Струение жидкости тут ощущалось сильнее. Я чувствовал, как она омывает мои ступни. Я открыл дверь и нашарил выключатель. Никакого результата. Зато шум стал яснее и громче. Он словно бы доносился из ванной по ту сторону коридора на полдороге между моей спальней и комнатой для гостей рядом. Казалось, кто-то принимает душ.
Я ощупью прошел по коридору и шарил, пока не ухватил ручку ванной. И тут я замер, дрожа, исчерпав и мое любопытство, и храбрость. С неумолимой логикой сна я знал, что именно мне предстоит увидеть, если я открою дверь. Как-то раз, много лет назад, когда мы были еще экспериментирующими любовниками, мы с Люси сняли домик на острове в окрестностях города, где она жила. Как-то утром я вышел взять кое-какие вещи из нашей машины, в том числе камеру, которую мы захватили с собой. Когда я повернулся к домику, то увидел, что она стоит нагая у окна, протягивая руки вверх, и ее изумительная фигура изогнулась в идеальной гармоничности — тяжелые груди нависали над завитками тонких милых волос на лобке, вскинутые руки обрамляли ее нежное лицо.