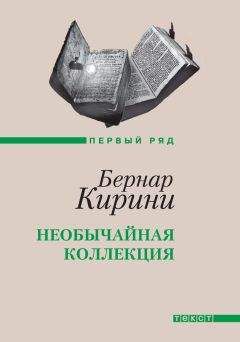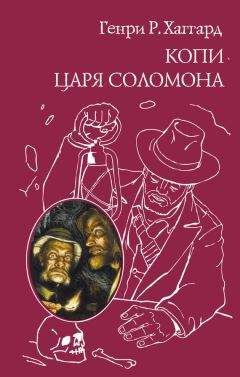Михаил Нисенбаум - Теплые вещи
Вдруг где-то в самом углу третьего этажа, где я проходил много раз, оказывалась пустая бирюзовая курительная комнатка, где, похоже, никто никогда не курил. Здесь стояли два кресла, обтянутые велюром, а в простенке между окнами – тяжелая мраморная пепельница на чугунной витой колонке. Паркет отсвечивал небом, а на оконном карнизе сидел черный голубь с живым янтарным глазом. Помню, я провел в этой комнате около четверти часа, словно заплыв в бирюзово-золотистую бухту, крохотный филиал зачарованной вечности. Потом эта комнатка куда-то потерялась. То есть она, вероятно, оставалась на прежнем месте, но найти туда дорогу я больше не мог.
Я любил приходить и в Большой зал, залитый по утрам зыбкой темнотой под самый лепной потолок (только в каморке радистов да у рабочих сцены в уголке горело по лампочке). Еле-еле угадывались искорки позолоченного позумента лож и балконов, бархат кресел казался бы черным, если не знать, какого он густого гранатового цвета. Зияла безмолвием оркестровая яма, и вся сцена в оборчатых нарядах гулко выжидала шагов, голосов и музыки. Еще откуда-то из-за кулис протискивался призрак слабого дневного света: в карманах по бокам сцены под самым потолком были окна, ведущие во внутренние дворики. В карманах были сложены декорации, плакаты, лозунги, из-за полуразобранной избушки на курьих ножках вдохновенно, как по команде «равняйсь», вздергивали бороды Ленин, Маркс и Энгельс.
Мы прошли в правый карман, и едва видимый Николай Демьяныч, запнувшись о метлу Бабы Яги, ругнулся без привычки, как ругаются в кругу испорченных сверстников школьники из хорошей семьи.
Через полминуты из глубины закулисного мрака послышались приближающиеся чеканные шаги, и в проеме кармана уплотнилась небольшая бодрая тень, которая утренним тенорком сказала:
– Вот ты где, Демьяныч, дорогой. А я тебя ищу, с ног, можноскать, сбился.
– Вить, ты, что ли? Ни черта не видать-да.
– Не знаешь часом, где Кричихин? – требовательно спросила тень моего друга и учителя с большой буквы.
– Хм. А в подвале нет его? – почему-то растерялся главхуд, как будто за минуту перед этим запер неодетого Кричихина с кляпом во рту у себя в кабинете.
– Не смотрел. Сейчас сбегаю.
– Давай. Вдруг Мокеича увидишь, скажи, мы его тут ждем.
Вялкин пропал, главхуда через минуту чуть не придавило огромным тряпичным мухомором, и он погнал меня из кармана за Мокеевым. Я поплелся через темную сцену к пожарнику, где Мокеев с Никишкиным любили почаевничать, а иногда и попортвейничать. По дороге я размышлял над странным поведением Вялкина. Зачем так настойчиво и спешно искать главхуда, только чтобы выяснить, где находится Кричихин? Почему он сразу не спросил у меня про Кричихина? И на кой ему болтаться по всему Дворцу, если столярная мастерская в подвале?
В маленькую комнатенку пожарника пробивался задумчивый солнечный луч. Мокеев с Никишкиным сидели у стола и играли в карты под пожелтевшим плакатом. На плакате накатывали друг на друга поучительные кадры: окурок, дымящийся в постели какого-то небритого простака; плохие примитивные мальчики, жгущие у себя под носом огромные спички; нарядно полыхающий чертежный домик. Носы Мокеева и старенького Никишкина тоже пылали в лучах заходящего солнца.
– А вот вам и десятощка, – вывел Никишкин, как церковный певчий, и положил карту, бережно придерживая ее и слегка щелкая поддетым уголком.
– Ордена боевого Красного знамени ху-уяк! – Мокеев резко с оттягом влепил в стол даму треф.
– А вот и еще щервонщик, – не меняя лирического тона, пропел пожарник.
Мокеев, сопя, сгреб карты и впихнул их в свой клетчатый веер.
– Николай Демьяныч просил вас зайти в карман. Мы лозунг не можем найти.
– Ходи, – приказал Мокеев, не глядя на меня.
– А вот вам бравой офицер, распрелесной кавалер, – Никишкин выложил валета, явно предчувствуя скорый выигрыш.
– Н-на ему короткой ногой! – щелкнула сверху козырная десятка.
– Так он-от с братцем будет, – мирно улыбнулся пожарник, выкладывая козырного валета.
– ...твою мать, вот не живется, ..., людям по-людски! Х...ли вы сами не можете ни ... сделать! – взорвался Мокеев, бросая карты на стол.
– Демьяныч велел, – пожал плечами я.
– Демьяныч... А тебя на ... взяли? Я вообще совместитель. Правильно я говорю? – обратился Мокеев к пожарнику Никишкину.
– Прямо в тощкю, Мокеищ, – преданно и незлобиво отвечал старичок Никишкин, включая в розетку запрещенный электрочайник. – Прямо в тощещькю.
– Ну я ему скажу, что вы не пойдете, – повернулся я уходить.
– Иду, чтоб тебя, – поднялся Мокеев, вставая и поправляя несменяемый клетчатый пиджак, похожий рисунком на рубашку брошенных карт.
Через десять минут доски сцены осветилась рядом знойно-ярких «дежурок», и на четыре стула был уложен прошлогодний, слегка запылившийся кумачовый транспарант. На длинном узком полотне было написано:
«ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ
XVI РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!»
Шрифт был без утолщений и засечек, это сильно упрощало дело. Такой шрифт я более или менее освоил. Правда, оставались кое-какие проблемы с буквами «А», «X» и «Ж», которые так и норовили то разъехаться, то сплюснуться, то перекоситься. Но ведь можно было, в конце концов, расчертить кумач тоненькими карандашными линиями.
– Может, вставить одну черточку, как думаешь, Мокеич? – спросил Николай Демьяныч, обходя вокруг стульев.
– Не, Коль, х...ево будет, зазора ни ..., ..., не останется, – задумчиво отвечал Мокеев, придирчиво отряхивавший свой пиджак.
– Сейчас попросим Раю найти лоскуток, аккуратненько булавочками пришпилим, да Михаил напишет поуже.
– А чего, новую не хотите? – проклятый матерщинник сосредоточенно теребил свой рубиновый нос.
– Не успеть... Это еще кумач перетягивать, заявку писать...
– До послезавтра, что ли?
Я не выдержал и сказал:
– Николай Демьяныч, я пойду сбегаю к Рае.
Уже выходя со сцены, я услышал, как загудел заводской гудок. Услышал сначала ногами, когда невнятно завибрировал пол. Гудок шел издалека и отовсюду. На УМЗе заканчивалась первая смена.
В просторной швейной мастерской с двумя рядами столов, как в школьном классе труда, было темно. Горела только одна лампа, освещавшая зингеровскую машинку и пять новеньких буденновок с большими алыми звездами, стоящих в ряд на соседнем столе. Неунывающая Рая в плохо застегнутом халате отложила очередную буденновку, мы вытащили штуку кумача, повалили на стол. Огромными портняжными ножницами Рая ловко отхватила полоску ткани, а потом еще, хохотнув, зачем-то игриво щелкнула ножницами перед моим животом.
Лоскут был плотно приколот булавками. По цвету он идеально совпал с прежней тканью. Ясно было, что писать номер партконференции придется сегодня.
* * *Навалившись тенью на транспарант, я макал подрезанную кисть в банку с белилами и вел линию по пружинящей ткани. «X» я написал идеально. Мой первый блин редко выходит комом. Чаще это случается со вторым – первый-то удался, можно слегка расслабиться. Недурно получились две римские единицы. А вот «V»... Глазомер дал маху, и линии немного не дошли до низу. Пришлось осторожно удлинить цифру, так что «V» вышло похоже скорее на «Y». Я отбегал от транспаранта в глубину темного зала, стоял в проходе между креслами, глядел так и этак, потом возвращался на сцену. То мне казалось, что на кумаче ничего другого, кроме моей оплошности, не видно, то – под другим углом – все выглядело совершенно безобидно и даже профессионально... Как бы то ни было, оставаться дольше не имело смысла. Кряхтя от натуги, я утащил транспарант в карман за сценой, убрал стулья, вернулся в мастерскую, зажег свет, вымыл кисть и завернул ее в бумажку, чтобы не растрепался сохнущий волос... Запер дверь и, отдав ключ вахтерше, слушавшей у своего столика радиопередачу, вышел из Дворца.
3
Синело по-зимнему. Холод поджидал у входа, черные деревья в парке мотали головами, точно пытались очнуться. Ветер менялся. Интересно, где у ветров конечная остановка, подумал я, втягивая голову в ворот свитера. Вот они останавливаются где-нибудь на краю поля или на городской свалке, выжидают полчаса (может, кто-то в это время пьет туманную настойку в ветряной диспетчерской?) и опять поднимаются с новым путевым листом.
Дома пахло горячим коричным печеньем, а из комнаты сестры раздавалась песня «D. I. S. С. О.» в исполнении группы «Оттаван». Именно сейчас я обнаружил, что оставил китайский томик на работе.
– Может изможденный художник-труженик рассчитывать на минуту отдыха и тишины? – криком поинтересовался я, заглядывая к сестре, которая плясала с нашей собакой Бушкой, таская ее за передние лапы.
– ЧО? – не расслышала она, выпуская беленькую Бушку и приглушая звук проигрывателя.
– ИЗУВЕЧЕННЫЙ НА РАБОТЕ ЖИВОПИСЕЦ ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ!
– А изнуренная ученица делала уроки и, может, тоже имеет право, понятно? – дерзко ответила сестра.