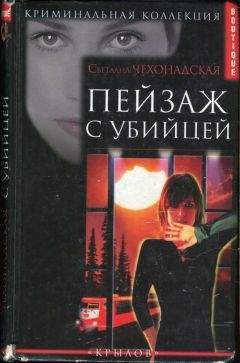Валерий Митрохин - Афорист
— Что ты, что ты! — возразил Терентий. — Он парень хороший. Я знаю таких.
— Эй, ты, фрукт! — окликнул Вовса Семивёрстов. — А лодку что, я за тебя на место должен вытаскивать?
— Ничего, не лопнешь! — ответил парень, однако на калитке задержался.
— Ну что, видишь, как отвечает. Если бы он любил Ва, разве бы посмел так со мной разговаривать!
— Он слышал, как ты про рабовладельцев выражался, и обиделся.
— Если бы хотел породниться, проглотил бы обиду, — и заорал Вовсу: — Пока лодку не поставишь на место, не смей и шагу ступить!
— О, боже! — пробормотал Вовс. — Ну что тут делать!
Губы его побелели. Он оставался ещё в калитке, когда Семивёрстов сорвался, перешагнул заборчик и навис над ним, как обвал.
— Папка! — выскочила из домика Ва. — Стой! Ну, как тебе не стыдно!
— А ты поганка, — оглянулся на крик Семивёрстов, — и ты против отца?!
— Я не против отца, а против того, что ты делаешь.
— Не скандальте, Валя, — подскочил Терентий, — Он психует. В нём ревность взыграла.
— Он за твою мораль, Ва, переживает, — вставил Вовс.
— Ах, ты зас… косоглазый! — прошептал Семивёрстов. И, уже не борясь с собой, ударил наотмашь.
Раздался вопль. Это закричала Ва.
Вовс сбросил рюкзачок. И, согнувшись, пошел к воде. Присел на корточки, стал умываться.
— Извинись! — вопила сквозь слёзы Ва.
Напоминала она Семивёрстову мать–покойницу, когда она ругалась с пьяным отцом, который имел привычку распускать руки.
Семивёрстову стало плохо. Он сел, где стоял. Ва снова вскричала, кинулась в хату. Терентий тоже сбегал к себе во времянку. Притащил капли. Натрясли Семивёрстову. Он выпил. Подошёл Вовс. Попросил. И ему накапали. Выпил. Вернулся к воде. Теперь уже к лодке и стал её вытаскивать на катки.
— Скажи ему, пускай оставит, — прохрипел Семивёрстов.
— Нехай! Не надо трогать! — крикнул Терентий.
Вовс оглянулся, подождал чего–то. Достал из лодки ведро с рыбой. Принёс, поставил у калитки. Семивёрстов заглянул в него. Полно бакабашей, монахов, песчаных.
— Ну что, могу быть свободным? — спросил Вовс насморочно.
— Подожди! — тускло проговорил Семивёрстов. — Извини. Погорячился я… — невнятно с хрипотцой, не поднимая глаз.
— Никто никому, ничего не должен, — ответил парень и, не оглядываясь, пошёл прочь.
— Ты пустил ему кровя. Другой бы на его месте стал бы мстить. Но Вовс не из таковских, — сокрушённо бубнил Терентий, глядя уходящему вслед. — Ну что за день такой! Жарко, скучно и ни одной красивой женщины.
Есть края, где люди и природа красивы. Они веселы и сверкают — земля и лица. А тут живёшь в бедности. Прожил, можно сказать, лучшие годы, словно продешевил на базаре судеб. Неопытный покупатель — схватил первопопавшийся товар, не прицениваясь, не осмотревшись: может и что–то получше есть. Прожил в тоске, словно на обочине остался…
— Что я тут делаю? Тебе и в самом деле интересно знать? Что ж, малышка, знай: я прохожу сюда навестить свою молодость. Да! Такое бывает и вполне возможно, если у тебя хорошая память и тебе есть что вспомнить.
Рифмы впрок
Натура,
Натуля.
Афорист.
Аферист.
Инфляция.
Инфлюэнца.
Анастасия.
Анестезия.
Калеки.
Коллеги.
— Я тоже хотела уехать, раз ты так! — говорила вечером целый день молчавшая Ва.
Она почистила и нажарила рыбы. Остальную посолила. И теперь сидела — юбка колоколом — на пороге.
— Бросила бы отца? И не побоялась бы, что он с сердечным приступом, — отбивался Семивёрстов вяло. — Ради кого?
— Ты ведь не расист? — спросила она вдруг.
— Я не расист, но и ты ему не нужна.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что я знаю. Его наверняка давно уже с какой–нибудь единоверкой обручили. Никогда он не женится на нашей.
— Ну что ты сразу о женитьбе?
— А как же иначе? Ты ведь взрослая. И ещё. Вот ты меня осуждаешь, а ты можешь себе представить, что его отец так, как я, находит его у себя дома с тобой. Ты можешь себе представить, что было бы?
— Про них говорят, что они гостеприимные.
— Я не отрицаю. Но не в таких ситуациях. А представь себе такую картину: аборигенка привозит к себе домой парня. Да ещё иноверца, да ещё тайком. Такую никто из них в жены не возьмёт.
— Вовс против предрассудков.
— Он — может быть. Но не его родня.
— Но ведь и мы — не они. Не следовало бы его выгонять.
— Ты права. Так нельзя делать. Но это с одной стороны. А с другой — надо было. Надо было дать ему понять, что ты из строгой семьи. Потому что они нас в первую очередь за наше отношение к жизни презирают. Они считают нас растленным народом, потому что мы не блюдём традиций семьи, рода, не почитаем старших.
— Но мне ведь с ним учиться. Как я ему в глаза посмотрю?
— Очень просто. Увидишь, он тебя только уважать больше будет. Так что смотри на него сверху вниз, не мигая.
— Это почему же так смотреть мне?
— А потому что он ростом не вышел.
— Разве?! — изумилась Ва.
— А ты что, даже этого не заметила? Он ведь на целую голову ниже тебя.
— Нет!
— Вот видишь, какая ты у меня ещё слепая, как недельный кутёнок.
Ва шла над морем. Силуэт, освещённый поверхностью огромной воды, сначала прорисовывался довольно чётко. Но вот зеркало моря, стоявшего в штиле, взволновал ветер. Освещение изменилось, и верхняя часть силуэта пропала, растворилась в ночи. И только длинная туго схваченная пояском юбка, словно узкий белый луч, светит с неба на обрыв.
Они стояли на обрыве. А между ними пылало заходящее солнце. Терентий сказал, глядя на горизонт:
— Завтра будет большой ветер.
— Посмотрел я на него. И сразу у меня всё поплыло перед глазами. От гнева. Почему он рядом с ней? С моим ребёнком? Он — чужак, ничтожество?! Эта маечка, линялые джинсы, эти натужно надутые бицепсы, крашенные марганцовкой. Эта вежливая улыбочка. И узкая до неприличия задница. Всё меня так достало… Я даже испугался, что от всего этого у меня голова лопнет.
Две чёрные большие птицы летели в закат, прижимаясь к тёмной воде залива. И картина эта ввергла Семивёрстова в тоску, неведомой до сих пор силы.
По обе стороны зари — для них рассвет, для нас закат. Незатухающая радуга рассвета. Незатухающая радуга заката. Оранжевая волна, обегающая земной шар за двадцать четыре часа.
Вдали две чёрные сферы ночные — небо и море — кто–то сшивал толстыми жгутами молний.
Наброски автора:
Арабскую вязь ослепительными иероглифами ткала ночная гроза.
Иероглифы грозы (так, по крайней мере, короче).
Наутро заштормило. К берегу ринулись несметные полчища полосатых лошадей. Белобрысые зебры тесной табунотолпой шли, шли и шли. Но, не доходя до земли, куда–то исчезали, быть может, становились невидимками. Незримыми, бестелесными они безболезненно, словно свежий воздух моря, входили в нас. Но почему безболезненно? Голова покруживается, на губах соль, иногда холодно, особенно если штормит зимой.
— Мы ничего не делали, — сказала Ва.
— Они ничего не успели, — подтвердил Терентий.
— Я умираю, Муст! Всё для меня потеряло смысл.
— Что случилось, брат?
— Всё потеряло на этой земле смысл, кроме любви. Но и она трещит, как яблоко на зубах. И как только исчезнет любовь, всё кончится.
Муст внимал Вовсу, говорящему с закрытыми глазами, обливающемуся потом и слезами. И понимал, что помочь ему он не в силах, никто не в силах.
— Земля потеряет всё. Но если не погибнет любовь, то человечество ещё сможет возродиться: из споры, из семени, из капли влаги, из памяти и даже из ничего.
«Сад воды» — не правда ли, сюрреалистическое название!
Неделю, пока длился кризис, Муст не отходил от постели брата.
Тык — тук — так — ток — тюк — тик — тёк.
— Мне приснился кошмар, — первое, что произнес, едва шевеля обветренными губами, Вовс. — Ва умерла.
— Как?
— В моём сердце.
«Вовс, хоть и потерял много сил, непременно выздоровеет. Это не физика, это нервы» — размышлял Муст всё это время.
Внезапно сам почувствовал себя неважно. Ощутил вдруг, что отрывается от брата. Оставляя в его руке свою руку.
Безумие заразно.
Слова мои вновь не имеют силы. Гений.
Неофициальный символ Цикадии — памятник Гению у абортария.
— Жениться на такой!? — Муст воззрился на Вовса с неподдельным изумлением. — Что ты, брат! Встречаться с ними вообще–то можно, чтобы своих не портить. Но жить…
— Но чем она хуже наших?
— Наша баба нарожает тебе наших детей! Да! После пятого ребёнка она уже не женщина, а машина. Но зато с такой можно продолжать род.