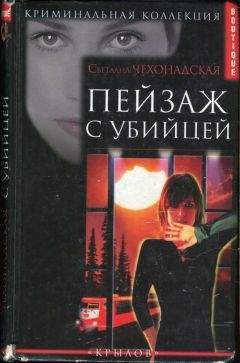Валерий Митрохин - Афорист

Обзор книги Валерий Митрохин - Афорист
Валерий МИТРОХИН
АФОРИСТ
Роман
Благими намерениями выстлана эта дорога.
«Дама червей» за всю жизнь ни разу не вышла замуж. Но, как все здоровые женщины, рожала. Можно было бы подумать, что к ней захаживал какой–нибудь инкогнито. А может, и не один. Однако ни разу за все годы ничего подобного замечено не было. Просто она полюбила невидимку и прожила с ним всю свою родимую жизнь. Автор.
Роман об этой даме я сочинял два месяца. Он стал бестселлером.
Теперь вот — «Афорист». Пишу его в течение двух жизней, а конца не видно.
И всё–таки эта работа много лучше, нежели редактирование. Чужие тексты править — словно гнутые гвозди ровнять. Как ни осторожничай, а пальцам больно. Автор.
Ассоциативный ряд:
Править бал. Править народом. Правёж.
У лика — улика. На лица молиться.
Жизнь быстра, как пуля. Не жаль, что прошла мимо.
Цикадия — то самое место, где некогда жили три ведьмы, три прорицательницы–мойры, бравшие за свои пророчества человечиной.
Анчоус — так называется деревня, куда ведут все дороги Цикадии. А почему бы и нет? Есть ведь посёлок Судак, порт Осетровый или городишко Кальмар!
В Анчоусе мы и собрались в конце тысячелетия. Во дворике над морем развели огонь и варим уху. Из кефали, чудом попавшейся на крючок спиннинга. Из молодой картошки, которую даже ошкурить не пришлось, и других овощей — тугих, жестких и сочных. Эти оранжевые, полные юных фасолин стручки, головки ещё не успевшего набрать горечи чеснока, вышибающего слезу суходольного лука, крошечные фаллической формы патиссоны и прочая всячина, без которой уха не уха, а рыба никогда не отдаст бульону того самого аромата, от которого слегка покруживается голова.
В скалах побережья кишмя кишат ящерицы. Особенно красивы золотистые и, пожалуй, фиолетовые. Попадаются зеленые (малахитовые), серебристо–серые и даже розовые. Последних почему–то называют лесбиянками.
Вдоль моря ходят индюки, важные и устрашающе похожие на орлов–стервятников.
Женщины — с большими бёдрами, длинноногие — стояли и сидели, лежали, выпятив солнцу кто грудь, кто пах. Промеж них сновали нагие, как херувимчики, ребятишки. Тут же сверкали ягодицами голые мужики. Смотреть на последних было неловко; но как было не стыдно им самим?! Особенно тем из них, кому нечем было гордиться: так, что–то мелкое в сморщенном мешочке. Быть может, не стеснялись они своего убожества только потому, что такими же ценностями обладало большинство из них?
— А чего комплексовать? Геракл, какой гигант, а предмет преткновения у него был весьма скромных размеров.
— Так лишь кажется. Среди груды титанических мышц, какой угодно большой смотрится скромнягой.
Шли берегом: то обжигая стопы раскалённым песком, то охлаждая их в малосолёной воде залива. Казалось, не прибой шипит, а обожжённые ноги.
Боги, если они не настоящие, исчезнут. А звезды, которым дали их имена, останутся. Автор.
Ночью на пляже:
— А теперь держи меня крепко, я полетела.
Свадебное платье лежало белой невесомой грудой, словно сброшенные крылья.
— Мы вернулись домой, приятель! — Муст широким жестом осенил улицу, посреди которой горел большой костёр.
— Поздравляю! — ответил Пиза. — А что это за огонь?
— Празднуем. В этом пламени мы сжигаем все наши чемоданы.
— Зачем же добро губить?
— Обычай. Чтобы избавить себя от искушения куда–нибудь уехать отсюда.
— Сжигаете мосты?
— Чемоданы. Привыкайте. Мы народ особый, в нас всё незаемное. Всё по–своему. Не мосты, а чемоданы. А вообще, заходи. Кумыс есть. Буза.
Приглашая, Муст был искренен. Но Пиза всё равно чувствовал себя не в своей тарелке.
— Спасибо. И я не с пустыми руками. У меня водочка.
— Нет! Нет! — замахал руками Муст. — Мы водку не пьём.
Пиза откупорил бутылку, подал Мусту.
Тот сразу же сделал несколько глотков из горла, словно и не было перед этим ни жестов, ни слов.
Бутылка вернулась. Пиза тоже выпил. Снова протянул Мусту. Но тот отстранился.
— Брезгуешь?
Муст не обиделся. Он был добродушен как никогда.
— Пей, не бойся! Водка мощный дезинфектор. К тому же зараза с пьяницей не целуется.
— Я не пьяница! — серьезно сказал Муст. — А не пью после тебя, потому что ты иноверец. Религия не разрешает.
— Да! Хлебнём мы с тобой когда–нибудь, — констатировал Пиза.
— Ладно! Чего откладывать, — переменил тон Муст. — Давай, — отхлебнул жадно, — пока никто не видит, возьму грех на душу.
И тут же захмелел.
— Это тебе не кумыс или буза! — ухмыльнулся Пиза.
— А ты что? — заплетаясь языком, начал Муст не своим голосом. — Ты, быть может, хочешь возвыситься надо мной? Нет, паря! Не выйдет у вас это больше никогда!
— Пожалуй, тебе хватит, — Пиза отнял бутылку.
— Так вот! Никогда. Никуда до конца своих дней я отсюда не поеду. — И он заорал: — С удовольствием буду сидеть дома!
— Не бузи! — рассмеялся Пиза.
— Слишком долго нас тут не было, чтобы снова куда–то, хоть ненадолго, отлучаться.
Самолёт похож на пулю, летящую издалека.
Это на нём как раз и возвращался Муравей Селиверстов.
Аэропорт. Радиоголос. Объявления. Духота. Суета, свойственная местам скопления людей. Гудеж.
Пассажирский самолёт с носа очень похож на дельфина: этакая морда с застывшей улыбкой.
Небо — ещё не Бог.
Небеса — уже не бесы.
Идущий на посадку самолет в какой–то миг своими формами (с выпущенным шасси) напомнил ту самую часть человеческого тела, которая отличает мужчину от женщины.
Трап. Топот. Восклицания. Повалила толпа. Разговоры.
На туго натянутых майках начертано: КОКА-КОЛА.
Губы покрашены в цвет, напоминающий лиловый налёт на плодах сливы изюм-Эрик.
— Как полёт, Мур?
— Долгий.
— Я рада, что ты доволен.
— С возрастом мне всё труднее угодить.
Холостые поцелуи.
— Ты очень хорошо выглядишь. А как твоё сокровище?
— Капризная малышка замучила мамочку. Ни дня, ни ночи покоя.
— А мой бутуз здоровый и весёлый мальчик. И выдумщик большой. Они снова подружатся.
— Это хорошо. Она мечтает о том, как будет играть с ним.
«Японская оптика — лучшая в мире!»
— Извини.
— За что?
— За опоздавший самолёт.
— А ты тут при чём?
— Ну, как же. Это наш самолёт. Нашей авиакомпании.
— Не знала, что ты работаешь в ней.
— Нет! Просто я привык чувствовать ответственность за всё, с чем имею дело.
Те же двое. Спустя полтора часа.
Сев позади него, прижавшись к нему грудью, Тама пропустила ноги у него под мышками. Она обнимала его шею руками так, что нежные ее локтевые сгибы касались его щёк и холодили уголки рта.
За окном раскачивались верхушки тополей. Зелёные маятники.
— Ну что, приземляемся?
— Выпускай шасси.
— Касание.
— Приехали.
— Тормозной парашют.
— Рулежка.
— Ты весь в шрамах.
— Это старые раны, дорогая.
— Я обожаю старое вино. За аромат. А ещё за то, что оно голову кружит с первого глотка. Я даже прощаю ему то, что оно горько, потому что напоминает сок любви.
Танец с зеркалом — народный танец аборигенцев. У Пизы он тоже исполняется — в модернизированном, разумеется, виде. Девушки показывают себя только через зеркало. Вот так, смотри!
Муравей Семиверстов все делал, громко дыша. Ходил. Пускал струю, совокуплялся. Именно за эту особенность Тама любила его. И радостно окликала Шумным.
Днем и ночью я думал о ней, даже когда изменял. Генри Миллер.
Из подслушанного:
— Сосновые шишечки щелкают, распускаясь, как цветы.
— Сексуально сказано.
— У тебя обувь убийцы.
— Такие мягкие подошвы и без каблуков носили наши предки, жившие в каменных дворцах. Да–да! Не все мы были дикими кочевниками.
— Меж нами есть что–то общее. Мне нужна узда, а тебе теннис.
— Цинично, но не сценично, чемпион.
— Ты так считаешь?
— Окончательно.
— Неужели я в тебе ошибся?
— Можешь не сомневаться.
— Интуиция моя молчит. А это значит, что она уже все сказала.
— А я слыхала, что молчание — знак согласия. Твоя интуиция согласна со мной.
— Вот именно. Я же и говорил, что между нами есть общее. Этим общим оказалось это согласие: между моей интуицией и тобой.
Английский матч — стрельба лежа.
Старый мед, расплавившийся в тепле, кусок серого черствого хлеба — вот и весь завтрак Чемпиона.
— Ты бы мог уехать отсюда навсегда?