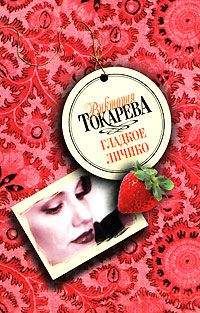Владимир Березин - Свидетель
Мне больше всего нравятся вертолёты. Я всегда зачарованно смотрел, слишком зачарованно и удивлённо для настоящего воина, на то, как они раскручивают винты, как наклоняются вперёд, ложась на курс. Я представляю, как взрываются порции топлива в цилиндрах их двигателей, как мечутся в них поршни, как раскручиваются вёсла лопастей.
Вот они несут, прижатые к бокам, свои многоствольные пулемёты.
Я любил это зрелище, хотя однажды такие же хищные птицы кружили надо мной и несколькими крестьянами, и ничего хорошего ждать от них не приходилось.
Они сходились и расходились, а потом, видимо, решив, что мы слишком мелкая цель для них, ушли мимо холмов, оставив нас жить.
Они созданы для убийства, и поэтому они красивы. Ничто, кроме смерти, не может зачаровать человека. Ничего, кроме смерти, не может заставить его думать о красоте…
„Однако, Багиров, — говорил я ему, — кто знает рецепт борьбы со злом, кто знает смысл войны, покажи мне его. Убитый твой ровесник приходит ко мне во снах, и он тоже не знает этого главного смысла.
Даже если ты скажешь, что смысл кроется в уличной музыке, зажатой между коробкой с ассигнациями и стеной перехода, я поверю тебе. Но ты всё время говоришь о смысле боевых машин“.
Проходя по подземному переходу на Тверской, я снова встретил маленьких латиноамериканских человечков. Они всё так же сосредоточенно трогали струны и, видимо, уже заплатили своим рэкетирам. Их дудки и скрипки мучили меня, и оттого поспешил я прочь.
Кафе, наверное, как-то называлось, но для меня оно называлось „У Гого“ — по имени хозяйки.
В этом маленьком кафе, где рядом со мной сидели греки, орал мне в ухо пьяный югослав, в этом маленьком кафе, которое было больше похоже на притон, я думал о том, что моя жизнь повернула совсем в другую сторону. В этом кафе я внезапно обнаружил, что спутники мои — впрочем, нет, просто прежние знакомцы — исчезли.
Лишь Геворг приходил ко мне во снах — впрочем, всё реже и реже. Больше никто не напоминал мне о прежней жизни. Звонить в Германию дорого, а писать мои знакомые не привыкли.
Я пил плохое и дорогое немецкое пиво под греческие песни. Мимо стойки проходили турки-гастарбайтеры, а может, это были курды. Я не мог их отличить, несмотря на то, что подружился с несколькими турками и ходил даже к ним в квартал, чего делать не следовало. Один из турок хотел мне подарить пистолет, потом решил продать, а потом внезапно отошёл в сторону и пропал навсегда. Я жил не по чину, как сказал мне один человек в далёкой от меня теперь южной республике, и вовсе не нужно мне было сидеть в этом кафе и смотреть, как мелкие русские мафиози приходят и уходят, бренча россыпями немецких марок в карманах.
Впрочем, русских было здесь предостаточно — торговцев, челноков, просто нищих.
Видел я и крупных мафиози, но, конечно, не в таких кабаках, не в иных местах, уже совсем притонах, например, в фальшивом китайском ресторанчике „Гонконг“, что стоял на углу моей улицы, где китайцев изображают одинаково плохо говорящие на всех языках мира вьетнамцы, не на вокзалах Deutsche Bahn, откуда электрички стартуют, сразу набирая скорость, и несутся потом мимо зелёных зимних полей.
Новые русские сидели за столиками дорогих ресторанов через границу в Лозанне и Баден-Бадене, но нужно мне было видеть и их, жать их душистые мягкие руки и курить с ними бесчисленные сигареты. Поэтому гардероб мой обновлялся, ведь встречали меня и провожали по одёжке.
Зимы не было.
Снег я видел только у стены старого замка, куда приехал на одну встречу. В замке было холодно, как в морозильнике. Когда я вышел оттуда, то долго согревался на зимнем солнышке. Напарник мой сидел в машине, как нахохлившаяся злобная птица в своём гнезде.
Человек, который нам был нужен, запаздывал, сохранив привычки нашего с ним Отечества. И наша нужда в нём, и наше здесь существование казались мне ненастоящими, как кучка грязного снега у стены.
Однако за это общение мне платили деньги, и для получения этих денег приходилось сидеть вовсе не в кафе, а в крохотной конторе, где кроме меня работала лишь одна молчаливая женщина из переселенцев.
По факсу я получал указания от Иткина, иногда отправлял ему отчёты, без которых он, по моему мнению, мог вполне обойтись.
Я отвечал на факсы, идущие из Москвы, и отправлял свои — дескать, всё нормально, трубы получены, столько-то метров таких и столько-то метров таких. Я возил бумаги, передавал загадочные пакеты, встречал и провожал незнакомых людей.
Вновь я на немецкой земле.
Всё шло понятным образом, только теперь вместо Peilstation и Kampfaufgabe[4] в моих текстах были zahlungsfähig и die Rückzahlung.[5]
Я думал о женщине, которую искал столько времени, и понимал, что сознательно отдаляю момент встречи с ней. Она стала для меня символом настоящей жизни, а встреча с ней — целью. Вот, думал я, цель будет достигнута, и меня постигнет несчастье. Ведь, придумывая человека, начинаешь ждать от него большего, чем он может тебе дать. Да я и сам не знал, чего я хочу от этой женщины.
Ещё я думал о старике, и что-то давило мне на сердце. Мой отец уже никогда не станет таким стариком. А именно таким, наверное, был бы, если б состарился.
И, одинокий, ходил бы по пустой квартире — а я был бы далеко. Вновь крутился в моей голове старый фильм, и полковник говорил мне: какой ты солдат, ты просто мальчик, мальчик, которого послали убивать.
Я был мальчиком без отца, и не было у меня никого. Я выпал из строя и отстал от колонны.
Время от времени я набирал длинный номер, который давно выучил, чтобы услышать её голос, записанный на плёнку автоответчика: К сожалению», «простите», «извините», «очень сожалею, перезвоните позднее», «оставьте свой номер телефона, спасибо».
Я уже знал наизусть не только эти записанные на мёртвую плёнку фразы, но и интонацию, посторонние звуки и шумы, которые случайно попали на плёнку. Я жил в пригороде большого города, в центре которого жила она.
Наша встреча должна состояться, и я в это верил. Но, несмотря на веру и ожидание, я не решался прямо приехать к ней домой или, уж по крайней мере, звонить каждые полчаса.
И вот я шёл в маленькое кафе и слушал греческие песни.
А в моей стране война разгоралась. Су-27 бомбили что-то в Чечне, на другой границе тоже было неспокойно, летели другие самолёты, уже транспортные Ил-76, к Душанбе, к той земле, где стояла вдали от родины 201-я дивизия, зарывшаяся в таджикскую землю. По слухам, раньше там воровали сухпай да выдавали денежное довольствие старыми рублями. Теперь ниточка, связывавшая меня с Таджикистаном, оборвалась, и некому мне было рассказать, что там, как там, как идут конвои от Куляба до границы.
Сейчас настала зима, война замёрзла, замерла на несколько месяцев, чтобы потом отогреться свежей кровью, чтобы двинуть «Вовчиков» вперёд, а «Юрчиков» назад, и наоборот. Одни были оппозицией, а другие — правительственными войсками или же наоборот. Всё смешалось в тех горах. А сейчас, зимой, лишь бегали вокруг частей мальчишки-бачаи, крича: «Шана, шана!»
А шана — это гашиш, мухоморовый отвар для новых берсеркеров.
Мне это показывали по телевизору вперемешку с полуголыми глупыми бабами. Наше телевидение было честнее — бабы были просто голые и не всегда глупые.
Проблемы немецких политиков и их соседей по сравнению с войной в горах казались пустыми. Я смотрел телевизор и видел словенского чиновника, который жаловался на проблемы с тремя тысячами итальянцев, живущих в Словении. Они не бегали по горам с автоматами, о них нужно было просто заботиться.
А я сидел в немецком кафе, где пили не кофе, а пиво те самые словенцы, где ходили, скрипя кожей, русские бандиты. Грек-хозяин при мне наклонился над раковиной и опустил в грязную мыльную воду, между стаканов и кружек, компакт-диски. Он принялся мыть их губкой тщательно и аккуратно, но всё же это создавало для меня какое-то бликующее и радужное веселье вокруг стойки, состоящее из бульканья воды, запаха табачного дыма и бряканья загадочных пищевых инструментов — блестящих, почти хирургических.
Зачем грек мыл компакты в мыльной воде вместе с пивными кружками, мне было непонятно. Но, стало быть, это было нужно, как и моё сидение здесь, в узком пространстве кабачка, наполненного греческой, немецкой и иной речью.
Однажды приснился мне странный и страшный сон про какое-то несчастье, про скрежет и лязг, раздирающий человеческое тело, и вот я, еле сопротивляясь наваждению кошмара, вспомнил, что если рассказать кому-то сон, то он не сбудется, начал пересказывать этот сон какому-то жучку или паучку, которого видел краем глаза: «Слышишь, жучок…»
Я вернулся в свой офис и опять начал шелестеть бумагами. Это занятие было честным, и я полюбил его — как игру. Чем-то оно напоминало игровой автомат, где перед тобой вылезают из дырок резиновые болваны, и надо стучать по этим болванам, загоняя их обратно. Сообщения появлялись неожиданно, и надо было успеть передать их кому-то, утрясти и ожидать новых.