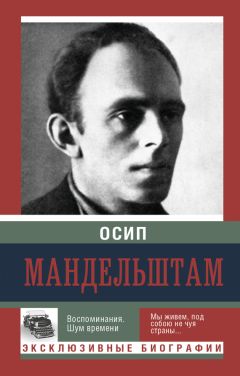Юрий Рытхэу - В зеркале забвения
— Именно в нашем советском обществе! — перебил его Коравье. — Всегда, даже если и не будут говорить вслух, будут подразумевать: ну что вы хотите от него — он же чукча!
— Я категорически возражаю! — закричал Фаустов. — То, что я прочитал — это свежо, своеобразно по самому высшему разряду! Не слушай его, Юрий! А еще земляк называется! Радоваться надо, а не каркать.
— Я не каркаю, — несколько тише произнес Коравье, — я говорю правду. Ту самую правду, о которой мой земляк никогда не напишет, потому что она как бы не существует. Эта правда неудобна для идеологии…
— Друг мой! — произнес Фаустов. — Мастерство советского литератора и состоит в том, чтобы из всех больших и малых правд выбрать ту, которая нужна советскому человеку!
Пеньковский отвел в сторону Гэмо и взволнованно зашептал:
— Надо его срочно уложить спать! Ведь он черт знает что может наговорить! Он уже завел антисоветские речи…
Гэмо и сам чувствовал, что земляка занесло. Он сказал ему по-чукотски:
— Если не хочешь испортить мне праздник, иди ложись…
— Пусть меня проводит Антонина! — потребовал Коравье.
Они ушли во вторую комнату, где стоял продавленный диван, взятый на складе Литературного фонда.
Застолье продолжалось, и, в основном, разговаривали между собой Пеньковский и Фаустов, обсуждая литературные дела в Ленинграде. Как давно догадался Гэмо, оба литератора принадлежали далеко не к высшему эшелону советской литературы, но имели весьма критические суждения о произведениях и действиях своих более удачливых собратьев но перу.
Вдруг из комнаты, куда ушли Коравье с Антониной, послышался шум, крики.
Гэмо с Валентиной бросились туда. Коравье, навалившись всем телом на лежащую Антонину, пытался содрать с нее платье. Девушка отчаянно сопротивлялась.
Гэмо с трудом оторвал пьяного, озверевшего от водки и желания земляка и отшвырнул в сторону. Он закричал на него по-чукотски:
— Что ты делаешь? Как тебе не стыдно! Ты совсем озверел! Уходи из моего дома!
Валентина вывела из комнаты рыдающую Антонину.
Коравье, обмякнув и ослабев, словно пузырь, из которого выпустили воздух, рухнул на диван и закрыл лицо руками. Он ничего не говорил, только тяжело дышал, и время от времени из его груди вырывался странный, короткий, воющий звук.
Гости и Валентина утешали плачущую Антонину.
— Ничего страшного, — сказал Фаустов. — Ну, лишнего выпил человек, утром проспится, ему будет стыдно, и он попросит прощения.
Поздно вечером Гэмо проводил Антонину на поезд.
Перед тем как лечь спать, он заглянул в комнату, где одиноко лежал на диване Коравье. Земляк лежал тихо, но его дыхание было слышно. Гэмо подошел. При свете белой ночи он увидел полные нечеловеческой муки глаза земляка, и острая жалость кольнула его сердце.
Позвонил Станислав, поинтересовался, как проводит время отец, спросил, не нужно ли еще денег.
— Пока все нормально, — ответил Незнамов. — Я тут познакомился с очень интересным человеком. В основном, общаюсь с ним.
— Кто он?
— Заведующий здешним туалетом.
Некоторое время сын молчал, видимо, с трудом осмысливая услышанное.
— Да он отличный мужик! — заверил сына Незнамов, догадываясь о его сомнениях. — То, что он заведует туалетом, еще ни о чем не говорит. Ты со своей колокольни уже не видишь, сколько хорошего народу оказалось на обочине жизни. Зайкин прекрасный инженер, работал на военном заводе, сейчас пенсионер. Ты знаешь, какая нынче пенсия у простого бывшего советского человека? Он еще хорошо устроился по сравнению с другими.
— Ну ладно, папа, — произнес Станислав. — Вообще, будь там осторожен. Я читал в газетах о перестрелке в баре гостиницы «Октябрьская» и о жертвах… Кстати, может, тебе лучше переехать в другую? Я могу устроить.
— Да нет, — ответил Незнамов. — Я уже здесь привык.
Дни стояли чудные. Незнамов с Зайкиным уговорились посетить Союз писателей.
Пошли пешком. По Лиговке, мимо Большого Концертного зала. Оглянувшись назад, на площадь Восстания, Зайкин вздохнул:
— Когда я вернулся из армии, на площади еще стояла церковь. Говорят, любимая церковь академика Павлова, Ивана Петровича, того самого, который поставил памятник собаке в Колтушах.
— А разве он был верующий? — удивился Незнамов.
— Очень многие ученые верили и верят в Бога.
— Неужели?
— Есть даже такие, которые математически, теоретически доказали его существование.
— Интересно…
Почуяв нотки недоверия в репликах Незнамова, Зайкин заговорил напористо:
— Вокруг нас тысячи вещей, явлений, которые современная наука просто не может объяснить или же объясняет неуклюже, примитивно… Что такое человек с точки зрения науки? Результат эволюции, постепенного превращения его из обезьяны в разумное существо. Но только один человеческий глаз — это необъяснимое чудо! Если собрать всю современную техническую и научную мощь, создать далее близкое подобие человеческому глазу невозможно! А человеческий разум, психика? Вы слышали, как недавно Гарри Каспаров победил самый мощный компьютер? И это в шахматной игре, хотя игре интеллектуальной, но механической!
— В принципе я согласен с вами, — сказал Незнамов. — Но я столько написал о преимуществах материализма, что сразу отказаться от своих взглядов не могу.
— Но это ведь не ваши взгляды, — сказал Зайкин. — Они приобретенные, а если точно сказать — навязанные нам. Как нас учили, так мы и думаем.
— У нас ведь выбора не было, — уныло ответил Незнамов. — Интересно, каково человеку вообще неученому, тому, кто сам до всего доходил?
Зайкин довольно долго думал, а потом решительно сказал:
— Такого человека попросту нет!
— А дикие племена?
— У них уже есть своя философия. Так называемые первобытные люди не рождались в полной изоляции, на пустом месте. У них уже была своя история, свои легенды и сказания, шаманские обычаи. Так что, друг мой, человек никуда не мог деться…
— Только Маугли, — уныло произнес Незнамов.
Они прошли мимо огромного серого здания, известного народу как «Большой дом», зловещая его история как штаб-квартиры Ленинградского КГБ была широко известна даже тем, кто никогда непосредственно не сталкивался с этим учреждением.
Свернув налево, на улицу Шпалерную, бывшую Воинова, очутились перед домом, частично охваченным строительными лесами с зеленой защитной сеткой. Потеки и обшарпанная поверхность стен свидетельствовали о недавнем бедствии.
За мутным стеклом входной двери маячил сторож. Он сразу же вышел, как только увидел остановившихся двоих мужчин, и объявил:
— Директора Дома сегодня нет и не будет.
— А что у вас тут случилось? — спросил Незнамов.
— А вы разве не знаете? — удивился сторож. — Дом сгорел три года назад.
— И до сих пор не отремонтировали? — спросил Незнамов.
— Откуда у нынешних писателей деньги на ремонт? — презрительно произнес сторож. — Им бы самим не умереть с голоду, а тут ремонтировать дворец, который до революции принадлежал семейству Шереметевых… Вроде бы турки брались, приходили, сети защитные навесили, а потом куда-то пропали, видать, тоже денег не могут найти.
— А вы здесь давно работаете? — спросил Незнамов.
— Да лет двадцать… Как получил инвалидность, сюда устроился… Ах, какой здесь Белый зал был! И библиотека из резного дерева, ресторан, обшитый дубом, Мавританская гостиная, Белая, Красная гостиная! Словом, настоящий дворец был.
— Отчего же он загорелся? — спросил Зайкин. — Я как-то пропустил это событие.
— По телевизору показывали, да в газетах не раз писали, — сообщил словоохотливый сторож. — Я так думаю, что писатели сами подожгли свой дом…
— Ну уж! — заметил Незнамов.
— А что? — обиженно проговорил сторож. — Как началась перестройка да демократизация, знаете, какие тут страсти разгорелись! Писатели разделились на два, а то и три Союза, и каждая группа считала, что она главная, и претендовала на дом. Судились, дрались в ресторане… — Сторож понизил голос. — А потом, думаю, кто-то решил: а пусть никому не достанется, да и поджег…
— А нашли? — спросил Зайкин.
— Кого?
— Поджигателей.
— Да куда там! Кто их ловить будет, если убивцев не могут разыскать.