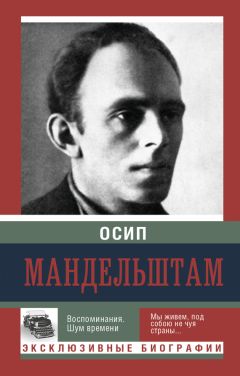Юрий Рытхэу - В зеркале забвения
— Выходит, что чукча — не конкурент французу, — с плохо скрытой обидой заметил Незнамов.
— Вот именно!.. Сейчас, конечно, я бы так не думал. Что мы тогда знали о чукчах? Что это дикий, вроде эскимосов, народ, затерянный в пространствах Севера. Ездят они на собаках, на оленях, живут в чумах…
— В ярангах, — поправил Незнамов.
— В ярангах, — послушно поправиться Зайкин, — грызут сырое, замороженное мясо. Словом, стало мне сразу легко и весело… Но с тех пор я заинтересовался этим народом. Стал читать. Тогда о чукчах писал только один писатель — Тихон Семушкин. Его роман «Алитет уходит в горы» даже получил Сталинскую премию.
— Потом у чукчей появился свой писатель, — с нарастающим волнением проговорил Незнамов, — Юрий Гэмо.
Зайкин задумался.
— Нет, о таком не слышал, — сказал он. — Может, поздний, новый, какой-нибудь модернист-концептуалист? Я их не читаю, неинтересны они мне. У меня вкусы простые, незатейливые — классика, реализм… Меня сейчас мучает одна мысль. Неужто человек изначально заражен национализмом? Ведь я тогда чувствовал себя настолько выше того несчастного чукчи Коравье, что не считал его серьезным соперником. И в то же время мои некоторые русские сослуживцы, в свою очередь, явно подчеркивали свое превосходство надо мной только потому, что я еврей, а они — русские. Вот что это такое, дорогой мой друг?
— Я об этом тоже думал, — ответил Незнамов.
Он еще не отошел от странного волнения, когда Зайкин заговорил о Коравье, ближайшем друге Юрия Гэмо. Если Тоня-Антонина встречалась с ним, то она не могла не встречаться с Юрием Гэмо. Как же так? Или она не стала знакомить с ним своего жениха?
Приближение к опасной черте так взволновало Незнамова, что Зайкин заметил это, но рассудит по-своему:
— Сейчас я, конечно, никакой не националист! Я уверен, что у этого народа много достойных, образованных людей. Я видел афишу: Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»! Значит, и артисты у них завелись. Но даже если бы у них ничего такого не было, у меня достаточно здравого смысла не считать себя выше кого бы то ни было. Это мораль пещерного человека. Когда сосед, но уже из другой, соседней пещеры, считался чужаком, почти что животным и даже заслуживающим съедения…
Звучание тревожной внутренней музыки потихоньку ослабевало, дыхание выравнивалось, и Незнамов возвращался в нынешнее бытие, внутренне радуясь тому, как отдалялась опасная черта, к которой он приблизился вплотную.
— У нас совсем другое, — сказал он. — Нас, ингерманландцев, за особый народ даже и не считали. Да, говорили, вы же такие русские и внешне, и по разговору! А я в детстве с бабкой и дедом по-нашему говорил. А сейчас в памяти остались отдельные слова да детские песни. А у вас целый живой, существующий народ и даже государство — Израиль! С таким тылом можно весело жить!
— Какой тыл, какой Израиль! — махнул рукой Зайкин. — Я уже говорил раньше — ничего еврейского у меня нет, и даже в детстве не было! И я давно понял, что копание в национальных корнях, поиски процента истинной крови — ни к чему хорошему не приведут. Чистота крови — это удел первобытных, изолированных пленен, которые ни с кем не общались, жили в глухом лесу, в глубинной, недоступной тундре. Как ни парадоксально — чем развитее и цивилизованнее народ, тем он смешаннее. Да что тут далеко ходить — возьмем Америку!
Тут в коридоре послышался истошный женский крик.
Незнамов вздрогнул и бросился было к двери, но Зайкин спокойно промолвил:
— Обычное дело. Использовали девку, а платить не стали. Тут это бывает. В таком случае лучше сидеть в номере, не высовываться, если не хочешь получить по морде.
Вой довольно быстро прекратился, сменился топотом множества ног, удаляющихся по длинному гостиничному коридору.
В эти прекрасные белые ночи Незнамов выходил на улицу и медленно брел по Невскому проспекту до самой Дворцовой набережной, шел мимо сказочно прекрасной решетки Летнего сада, переходил на другой берег Невы, смотрел, как разводят мосты, и часто встречал восход солнца на Стрелке Васильевского острова.
Он воображал, как этими путями идет Юрий Гэмо, уже довольно известный литератор, в легком темно-синем плаще, потому что ленинградские зимы казались ему достаточно теплыми, чтобы обходиться без зимнего пальто.
Возле розовых гранитных шаров у подножия Ростральных колонн он вспоминал родной Уэлен и галечный берег, уходящий под скалы мыса Дежнева, маяк со светлым вертящимся лучом над Ледовитым, океаном, зеленые мшистые камни и слышал зовущий посвист тундровых евражек.
9
Получив авторские экземпляры первой книги, Гэмо повез их на дачу. Пачки были тяжелые, оттягивали руки. Он ожидал бурной, кипящей радости. Думал, что может даже на время потерять рассудок, но ничего такого не случилось И единственная мысль, которая одолевала его в эту минуту, — сожаление о том, что деньги за книгу давно прожиты, проедены и даже не на что отметить знаменательное событие. Странно, но отношение к собственной книге у него было почти безразличное, словно это не он провел не одну бессонную ночь, склонившись на рукописью, разложенной на самодельном письменном столе, не мучился сомнениями в собственной способности создать художественное произведение. Но еще более странным было чувство отстраненности, как будто эту книгу написал кто-то другой, почти лишенный подлинного таланта, но научившийся писать так, как нравилось редакторам, а еще более тем, кто жаждал видеть запечатленными в печати великие достижения ленинско-сталинской национальной политики. Гэмо судил себя по самой высшей мерке, но если кто-нибудь сказал бы то же самое ему в лицо, он, скорее всего, не согласился бы, обиделся, горячо возражал.
Конечно, он теперь бы написал все не так. Но уже поздно что-то менять, и тут Гэмо понял, что вышедшая в свет книга обладает особенностью, пожалуй, не свойственной ни одному художественному произведению. Законченную скульптуру можно еще подправить, подмалевать написанную картину, изменить ноту перед новым исполнением музыкального произведения, но в разошедшейся в тысячах экземпляров книге уже не исправить даже малейшей опечатки, разве только дожидаться нового издания… На новое издание в ближайшем будущем надежды не было, да Гэмо и не хотелось бы переиздавать книгу, которую в душе считал неудачной. Потом, когда он напишет и выпустит десятки книг, он и тогда, наверное, не будет чувствовать полного удовлетворения своей работой, но будет относиться к этому спокойнее.
Валентина, взяв в руки книгу, прослезилась. У Гэмо тоже защекотало в ноздрях, он обнял и поцеловал жену.
Стараниями Валентины первую книгу все же отметили торжественной трапезой. В гостях были Фаустов, Коравье и приехавший к кому-то в гости Аркадий Пеньковский. Слушая их торжественные и выспренние речи, Гэмо уже и сам начал склоняться к мысли, что создал нечто стоящее. Захмелевший Коравье сказал:
— Наш народ этой книгой выходит на тропу, ведущую к главному потоку движения человечества. И если даже мы исчезнем совершенно с лица земли, в недрах какой-нибудь библиотеки найдется старый пожелтевший экземпляр этой книги, и потомки удивятся: надо же, у этого крошечного народа, заброшенного на край земли, были даже свои писатели!
— Вы уж очень пессимистически смотрите на будущее, — заметил Пеньковский, который по мере опьянения становился серьезным и рассудительным. — Прежде всего об исчезновении народа: партия и наша советская власть делают все возможное, чтобы этого не случилось. Во-вторых, поймите, товарищи, это первая книга! Первая книга молодого писателя! За ней, я уверен, будут другие!
— Но народы, как и люди, исчезают, — Коравье не так-то легко было сбить с толку. — Возьмем древних египтян, древних греков и римлян. Что мы бы знали о них, если бы они не оставили нам письменных памятников?
— О, да! — подхватил Фаустов. — Гомер, Илиада, Одиссея…
Пришла Антонина. Она принесла букет цветов и бутылку вина.
Сердечно поздравив Гэмо, она принялась помогать хозяйке.
Коравье при ее появлении сначала засиял, но потом как-то сник и стал налегать на водку.
— Но вот есть какая опасность, — заговорил он вызывающе, призвав остатки трезвости, — есть опасность второсортности. Как нас считают второсортным народом, так, возможно, и книги Гэмо будут считаться таковыми…
— Но, позвольте! — попытался возразить Пеньковский. — В нашем советском обществе…
— Именно в нашем советском обществе! — перебил его Коравье. — Всегда, даже если и не будут говорить вслух, будут подразумевать: ну что вы хотите от него — он же чукча!