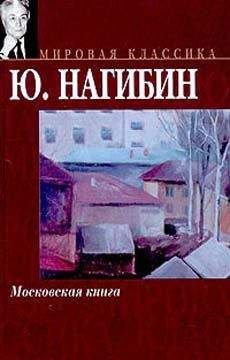Ада Самарка - Дьявольский рай. Почти невинна
Успокаивать меня было бессмысленно, папаша этим вообще никогда не занимался. А я заводила себя все новыми подробностями своей несостоявшейся вольной жизни и горько всхлипывала, скомкав под головой кусачий шерстяной плед. От присутствия при приготовлении ужина меня милостиво освободили. И когда во мне все ныло и горело, судорожно сжимаясь при каждом вздохе, я начала отчаянно жаловаться своему дневнику, добродушно протянувшему свою исчерченную клетками страницу под ожесточенный натиск моей шариковой ручки.
«…Мы ругаемся из-за всего, что подлежит ругани и не подлежит. Сегодня я сильно ушибла и, скорее всего, даже сломала палец на левой ноге (засмотрелась на А.), но, получив хорошую трепку за забытое дома полотенце, я молчу, стараюсь не причинять папаше никаких неудобств. Каждый шаг, тем временем, давался мне с невыносимой болью, и когда мы поперлись в «Марат», я попросилась домой, меня, естественно, одну не пустили. Поэтому когда мы шли, я не могла не ныть и не морщиться, потому что чертов палец распух, весь горит и пульсирует, а папаша психовал, что я медленно иду и выдумываю всякую чушь».
Tag Neun (день девятый)
Ночью я несколько раз просыпалась от тупой горячей боли, настырно пульсирующей сквозь туман уставшего сознания. После долгих часов непрерывных рыданий я чувствовала себя, как после каторги, каждая жилка пела свое сопрано, и их многотысячный хор издавал оглушительный рев, под который я и заснула. Часа в три ночи я проснулась основательно, сев среди скомканных простыней, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Что-то тут было не то, и это «не то» выражало всю мерзость пытки бессонницей, выдающуюся боль, которая выбивалась из общего хора воинствующим басом и стучала прямо в голову. Пел ушибленный пальчик на левой ножке. Он мучил меня еще вечером, и я плакала, большей части именно из-за этой вполне физической боли. Закрывая глаза даже на отобранную сиесту, я попыталась урезонить эту надрывно стонущую косточку.
Потом было какое-то забытье, а потом я проснулась, обнаружив, что в моем липко-красном сне стонал не Альхен (а интересно, как он стонет?), а я. И папаша, только что оглушительно храпящий, теперь недовольно ворочается, и серебряный луч луны придает его бородатому профилю какую-то страшноватую собранность, сдержанную суровость. Зеленый луч Маяка делал «Ух-х-х?» на спутанных ветвях старой фисташки под окном и мчался дальше. Ялта в воде. Ялта над водой. Небо индиговое, со звенящими вкраплениями звезд. «Ух-х-х?». Я решила встать и пойти попить. Но когда ноющая нога ступила на холодные половицы, неожиданный взрыв гнусной боли пронзил меня насквозь. Обиженно всхлипнув и вспомнив, к тому же, что являюсь жертвой непомерной суровости, я продолжала тихо питать слезами свою подушку, ответившую мне лишь неблагодарной мокротой.
День начался с моего трижды проклятого заикания по поводу свободы и папашиного утомленного рыка, что «пока я вожу тебя на море, покупаю тебе жрать и оплачиваю твои шмотки – жить будешь, как я сказал». И благоразумно молчала, ясно понимая, что других вариантов быть не может.
На пляже, правда, получила невероятное разрешение пойти подуться в карты с Маринкой (под тент). Тут же к нам присоединилась Рыжая, и я быстренько отправила ее к Альхену с вопросом о необходимости накладки гипса. Пальчик распух и был совершенно красным, и каждый мой шаг сопровождался несносным жаром и мучительной пульсацией вскипевшей крови.
Мы играли в пяти метрах от Гепардового лежака, папаши поблизости не было, и доктор тут же подошел с холодным, ах, каким холодным лицом! Деловито скрестив руки на груди и глядя на причину нашего обоюдного беспокойства, заявил, что «нужна фиксирующая повязка» и «я бы не удивился, что с твоей походкой в скором времени ты сломала бы не только палец». С надменным видом доктор удалился, не сказав ничего ободряющего, доброго и ласкового, так необходимого мне в моей имрайской депрессии.
Свободная Сюшечка с нетерпением ожидала его на своем лежаке и с видом абсолютно довольного человека, с отчетливым «давай…» приглашала огепардившегося как никогда раньше Альхена в свои белокурые объятия.
Я должна была встретить сестру с семейством на автобусной остановке в Жиме, а папаша на всякий случай будет поджидать их на Маяке. Около двух часов я обязана дежурить одна на солнечной бровке, заглядывая в окна проезжающих мимо автомобилей. Потом, по папашиному сценарию, будет иметь место праздничный обед на кухне у Цехоцких, потом поход на пляж («резервация», разумеется) и вечером, с наступлением возбужденной темноты – небольшая семейная посиделка за Старым Домом, на руинах древнеримских терм. Я имею право присутствовать на всех мероприятиях. Я буду одна на автобусной остановке. Одна два часа! Совсем одна!» А он, пожимая плечами, сбрасывая мои дрожащие руки, небрежно и презрительно ответил: «Нет, это не шанс, это западло. Как ты не понимаешь?..» – И, не желая продолжать разговор, удалился восвояси.
Помню, как, выбегая из переодевалки, в свистящий миг папашиного отсутствия, я схватила Альхена за руку и почти застонала: «Я поймала свой Шанс!
Но я все равно горела нелепой надеждой. Я существовала в каком-то расплавленном нереальном мире, где все происходит в размеренном приторможенном ритме и самые абсурдные вещи кажутся вполне осуществимыми. Я ожидала Альхена, а не их, и реагировала только на загорелых, коротко стриженных, в зеленых шортах и черных майках, с оливковыми рюкзаками за спиной.
Я провела на бровке ровно три часа – с 11 до 14, и из неподвижного транса меня вывел разъяренный папаша: они уже давно приехали! Уставшие и злые, они стояли тут, у тебя под носом целый час и потом пошли искать дорогу самостоятельно! Идиотка! Какая же ты бестолковая идиотка!
Сложив руки за спиной, ни капли не удивленная происходящим, и даже, кажется, улыбаясь (безумие прогрессирует), поплелась, как сомнамбула, за его взмокшей спиной.
Теперь мне было действительно все равно.
Nach Mittag Papan, как и обещали прогнозы, запретил мне какие-либо игры с Рыжей. Зная, как близко я с ней дружу, он на редкость понимающе выдвинул предложение об ограничении общения до невозможного минимума. То есть, пока здесь Мирослава и Машка, общаться с ними, а когда они уедут… По поводу Альхена был другой разговор. В свое оправдание я мямлила, что он проходил мимо, и я просто сказала ему «привет». На меня наорали в сторонке, перед сортиром. Но я не расстраивалась. Впереди меня ждали новые горизонты.
Насупленная Мирослава, муж Валентин и семилетняя Машка ждали нас в пляжном обмундировании под дворовым орехом. Моей целью был обстоятельный и наглый шок. Исключительно ради любимого семейства я вырядилась в собственноручно сооруженный наряд из ультракоротких шорто-трусов и узкого топика на кожаных лямках. Это одеяние, сконструированное из старых вельветовых штанов, маминых поясов и дедовых военных пуговиц, несло в себе, помимо громкого вызова, еще и что-то очень садо-мазохистское, агрессивное и панко-металлическое. На заднице была смелая аппликация из золотой синтетики в виде сердца и знака Венеры. Волосы я зачесала в высокий хвост и намазала губы Зинкиной фиолетовой помадой.
Завидев меня, сгорбленная, худющая, низкорослая сестра встрепенулась, впилась глазами в дополнительные боковые разрезы на шорто-трусах, но на этом все и закончилось, так как желанный недовольный блеск в ее глазах внезапно превратился в какую-то уставшую обиду, и мне стало не по себе. Я не ожидала такой реакции и, обдумывая дальнейшие пакости, отступила.
Мирослава вздохнула и сказала, окончательно озадачив меня:
– Жаль, что мое время прошло так быстро, и я не могу позволить себе что-то подобное.
– С ней говорить бессмысленно, – очень правильно сказал отец.
Я надела наушники и предпочла им общество Джорджа Майкла. Он пел мне про freedom. По дороге на пляж я, наверное, раз пять ловила на себе тяжелые взгляды сестры. По всей видимости, она была неприятно удивлена моим летним обликом, рассмотрев в нем какие-то зачатки сексуальности, в то время как в нашей семье я считалась большим неуклюжим подростком в бандане и с феньками. На ежегодные семейные сборища я приходила тихой и скромной, мало говорила, и если меня о чем-то спрашивали, то отвечала, смешно заикаясь и жуя слова, вызывая всеобщее расслабленное умиление. Сейчас же умилением и не пахло.
Мирослава семенила рядом со своим маленьким худеньким мужем, который с определенной радостью украдкой изучал мой наряд и вылезающее из него тело.
Мне стало вдруг очень жалко ее, и я решила, что больше так одеваться не буду. Столько грусти в человеческих глазах я видела очень редко. К тому же бедная Мирося не предпринимала никаких попыток, чтобы хоть немножко казаться привлекательной. Ее пляжные шорты сидели ужасно и сильно кривили ноги, страшная майка делала ее какой-то бесформенной, а бесцветные светлые волосы, собранные в отвратительную «ракушку» на макушке, сильно старили. И какая-то неудачная косметика, и сгорбленные плечи.