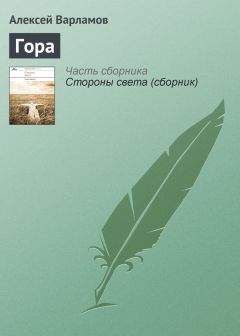Александр Проханов - Красно-коричневый
Он шел на главную линию обороны, к центральному подъезду, где надеялся застать Красного генерала, поступить в его распоряжение. Он оставлял стеклянный холл, наполненный перепуганными женщинами и баррикадниками. Уныло думал – бэтээры перенесут свой огонь на витринные окна, и холл наполнится пулями, криками, воплями, и весь этот люд поляжет на каменном полу среди красных горячих луж.
Он двигался коридорами, обгоняемый вооруженными защитниками. Бойцы торопились в разных направлениях, чтобы на лестницах и проходах занять оборону. Впереди, мешая пройти, шла группа депутатов, возбужденных и говорливых, среди которых выделялся Павлов, чернобородый и яростный. Рядом шагал Бабурин, очень бледный, бескровный, с угольно-черными усиками и бородкой.
– Вот теперь повоюем!.. Руцкой вызывает вертолеты!.. Они на подлете!.. С воздуха сожгут эти сучьи бэтээры! – Павлов забегал вперед, обращал на товарищей розоватые воловьи белки. – Еще повоюем!
– 119-й парашютно-десантный, он ведь наш, ачаловский!.. Ударит в спину этим жандармам-омоновцам!.. Пусть устоят, если смогут!.. Это им не старух да стариков лупить!.. – вторил Павлову низкорослый депутат в свалявшемся костюме, на котором красовался эмалированный депутатский значок. – Пусть нам автоматы дадут!.. Я проходил «курс молодого бойца»!
– Главное, чтоб поднялся народ! – сказал Бабурин. – Чтоб поднялась Москва и люди пришли сюда, как вчера!.. Тогда и штурма не будет!.. Армия не посмеет стрелять в народ! – он произнес это убедительно, с характерным ораторским жестом, и Хлопьянов, обгоняя их, протискиваясь сквозь их тесную шагающую группу, с удивлением уловил вкусный запах одеколона, исходящий, по всей видимости, от чисто выбритого молодого лица Бабурина.
Хлопьянов вышел в вестибюль центрального подъезда. На площадке, под хрустальными люстрами, увидел Красного генерала в окружении приднестровцев. Их черная форма, косо посаженные береты, пулеметные стволы выделялись среди белого камня и мрамора.
– Повторяю, – генерал буднично внушал собравшимся. – К стеклам вплотную не подходить. Во первых, снайперы, а во вторых осколки, посекут сильней любой гранаты. – В его сером сухом лице, в горбатом носе, в круглых желтоватых глазах было нечто от ястреба, но не хищного, а усталого и пресыщенного, выловленного из лесов и полей и посаженного в клетку. – Два фланга, левый и правый. Остерегаться прорыва пехоты. Держать коридоры. В глубину не соваться. Бой принимать на выходах в холл. – Он прикрыл глаза тяжелыми, сморщенными, как у старика, веками. И Хлопьянов вдруг испытал к нему острое чувство любви и преданности, как к своему командиру, с которым здесь, в этом нарядном холле, рассчитанном на торжественные делегации, приезд послов и глав государств, здесь, в это утро, им суждено принять свой смертный бой. – Главное направление – вход. Сюда пойдут бэтээры с высадкой пехоты. Здесь останутся те из нас, у кого длинноствольные автоматы, способные прошить броню. Подпускайте бэтээры вплотную и стреляйте в борт между колес и по триплексам, – он оглядел бойцов. Почти все они были вооружены короткоствольными автоматами ближнего боя, и только двое – он, Хлопьянов, и приднестровец с загорелым лицом, на котором белел незагорелый рубец, только двое имели длинноствольные «АКМ», способные с короткой дистанции прободить броню транспортера.
Генерал кивнул, завершая свои наставления. Отошел, нахохленный, с седоватыми усами, с портативным автоматом в руках. Сел на верхней площадке среди ступеней и маршей, будничный, усталый, выделяясь среди белого мрамора черным пальто и беретом. Замер, словно задремал среди хрусталей и парадных окон, сквозь которые плавными волнами света вливалось утро, а вместе с ним стуки и грохоты близкого боя.
– Мы с тобой вниз! – сказал Хлопьянову приднестровец. Колыхнул автоматом в голой по локоть руке. – Ты за одну колонну, я за другую! – и не дождавшись ответа, шлепая тяжелыми бутсами, поскакал вниз по ступеням с усталой грацией спецназа, спускавшегося с горы.
Хлопьянов устроился в вестибюле перед огромным стеклянным окном, укрывшись за мраморной колонной. Ему подвернулось мягкое кресло с гнутыми золочеными ручками, обтянутое парчовой тканью, из дорогого кабинета или зала приемов. Он удобно развалился в кресле, положив на колени тяжелый автомат. Смотрел на широкую за окном панораму.
Снаружи раскатисто, бодро, с разных направлений, на разных высотах, с разной злобой и частотой нарастала стрельба. Наполняла утренний воздух множеством дробных гулких тресков. Словно энергичные барабанщики расселись по карнизам и окнам здания, перебрасывались дробью и громом. Внезапно наступала тишина, словно барабанщики переставали стучать, удерживали навесу свои палочки, прислушиваясь к тому, что они настучали и натрещали. И тогда в тишине слышалось, как звонко вдоль фасада осыпаются стекла и гулко, одиноко, как удар палки о пустое ведро, ухала пушка боевой машины пехоты.
Хлопьянов восседал в золоченом кресле, как на троне. Вслушивался в знакомую, понятную какофонию приближавшегося боя. Сквозь огромные окна была видна утренняя набережная, по которой катил осторожный бэтээр с закрытыми люками. Река сверкала в переливах солнца, пустая, без катеров и теплоходов. Гостиница «Украина» возвышалась в голубоватом тумане, как влажная гора. Мост через реку был лысый, голый, без машин, перегороженный цепочкой солдат, сомкнувших жестяные щиты. Этот утренний мир толкал в просторные окна прозрачную невидимую субстанцию, обкладывая ею фасады и стекла, словно Дом упаковывали, отделяли от всего остального города, окружали пластами стекловаты, готовились спрятать в ящик и увезти. Хлопьянов чувствовал, как все тесней и плотней становится вокруг пространство, как наталкивается сквозь окна в парадный вестибюль эта прозрачная упаковочная стекловата.
Ему казалось странным это сидение в золоченом кресле на боевой позиции, за мраморной колонной. Он вслушивался в стрельбу, ожидал атаку и одновременно вспоминал, какие у него были бои и окопы, бойницы и брустверы, насыпанные из горячего горного щебня, перебежки и падения под взрывами мин, кувырки, когда плечо ударяется о камень, а поджатые к животу колени толкают его кубарем вниз по склону, и там, где он только что был, пробегает пыльная дорожка от пуль. Он вспомнил заставу на Саланге, вмурованные в саманную стену танковые гильзы. По синему бетону катила колонна с гулом и липким шелестом. Бледно мерцая, работал с горы пулемет, и из пробитой цистерны под разными углами начинало хлестать горючее. Он помнил сладкий запах разлитого бензина, и черную копоть, маравшую склон горы, и звонкий хлопок, разрывавший сталь, из которой фонтаном взлетал прозрачный огонь. Он вспоминал все прежние бои, сравнивая их с этим, который он примет по-царски, на золоченом троне, в центре Москвы, среди мрамора и хрусталей.