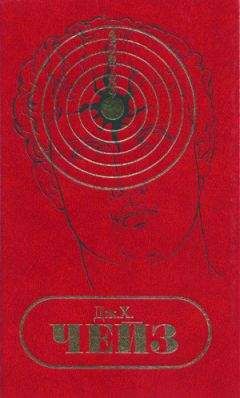Дитер Форте - Книга узоров
Вот так оно и случилось, что в течение десяти дней этот город отпраздновал сначала возвышение их курфюрста до короля Баварии, потом – его свержение, после этого – появление нового Великого герцога, после чего приветствовали Наполеона, поэтому не оставалось времени, чтобы протрезветь и задуматься о том, принадлежали ли они теперь к Великому герцогству Берг, или же к Баварии, или к Франции. Простому обывателю бросалось в глаза только разнообразие и быстрая смена денежных знаков, которые он с ходу переводил на бочонки пива и только так мог оценить их стоимость, – и всегда получалось, что на каждую новую монету, которую власти вручали горожанам, можно было купить все меньше пива, и это был прекрасный повод тут же обменять новые деньги на можжевеловую водку и пиво. Жить в свое удовольствие – священнее этого постулата для них ничего не было, и священник мог манить их хоть райскими кущами, хоть грозить им адскими муками, все равно святое правило жизни: «Кому нужна плохая жизнь» – для граждан этого столичного города-резиденции никак не противоречило Божественным законам. И если бы какой-нибудь чужак во время этих непрерывных празднеств обратился к горожанам с вопросом, что они думают по поводу политических событий в своем городе и не смущает ли их то, что город при каждом удобном случае меняет правителя, то он получил бы чистосердечный ответ: «Ох, не стоит так беспокоиться на этот счет!»
Именно такой вот образ жизни горожан побудил Фридриха Фонтана, младшего сына Густава Фридриха Фонтана, поселиться в Дюссельдорфе и первым делом купить себе соломенную шляпу. Он лихо заломил ее на своей «балде» – так он обычно называл свою голову, – полный решимости провести грядущую жизнь без труда, забот и огорчений.
10
Ровно через день после похорон отца Йозеф Лукаш попал во время смены под завал, который горняки именуют обычно «крышкой гроба». Так они называют подвижные горы породы, которые слабо держатся на висячей кровле пласта и могут совершенно неожиданно обрушиться, даже если крепь самая надежная. Рухнувшие камни раздробили ему обе ноги, а когда его подняли наверх, то на черном лице Йозефа выделялись только белки вытаращенных глаз да разинутый кроваво-красный рот, из которого рвались настолько душераздирающие крики, что работа на миг замерла. Его ноги болтались сами по себе, как у брошенной тряпичной куклы, туловище извивалось в судорогах, и только пронзительный крик, который на несколько секунд взвился выше башни копра, звеня у всех в ушах, говорил о том, что Йозеф жив.
Когда через несколько месяцев его привезли домой без обеих ног, он долго безмолвно сидел в углу. Он не разговаривал ни с женой, ни с детьми и лишь изредка бормотал: «Горняцкая рубаха – смертная рубаха» – или же напевал по ночам, когда все спали:
Снимаю кротко в миг кончины
Я черный китель горняка,
Фонарь кладут со мной в могилу,
И там же – молот и кирка.
Одежды белые дарует мне Господь,
Ведь только небо – справедливости оплот.
Однажды утром он потребовал зашторить окна, велел принести угольной пыли, натер ею лицо, ни на какие вопросы не отвечал и с тех самых пор всегда сидел в темноте, чернил лицо углем, не брил бороду и не желал ничего знать о внешнем мире. Старший сын смастерил для него трон из грубых досок, с которого он отныне не слезал и в котором проводил и дни и ночи, здесь же он спал сидя, забываясь на несколько часов. А еще он потребовал себе корону из золоченой бумаги, которую ему вырезал внук, попросил жену дать ему кусок красной гардины, который перебросил через плечо, и теперь именовал себя только Угольным Королем, и никак иначе.
Если его навещали друзья-горняки из его шахты, то он пускался в мрачные прорицания о том, что Бог-де перевернет землю и тогда кровля окажется внизу, а почва пласта – наверху, шахты будут копать из глубины наверх, раскаленная земля глубин попадет тоже наверх и смешается с углем, уголь запылает огнем и на поверхность земли хлынет адский жар. При этом Йозеф оскаливался, дико вращал глазами, которые страшно белели на его черном лице, и показывал гостям красный язык.
Потом он начал утверждать, что слышит голос своего предка из Дабровы, который лежит погребенный внутри горы и отчетливым голосом провозглашает истину, и ему надо записать эти слова. Он потребовал принести оберточную бумагу и принялся писать, то и дело замирая и прислушиваясь к внутреннему голосу:
Заповедная истина.
Господь создал мир за шесть дней.
Господь не отдыхал на седьмой день.
Заповедная истина.
На седьмой день Господь стал прятать уголь.
Господь запрятал уголь глубоко в землю, чтобы его нельзя было достать.
Заповедная истина.
Если люди выкопают уголь, рай для них потерян.
Если уголь увидит свет дня, то он превратится в огонь.
Все, что появится благодаря этому огню,
будет уничтожать людей.
Железо и сталь вновь обратятся в огонь,
и все люди от этого погибнут.
Сие есть заповедная истина.
Эту истинную «Господню» заповедь, которую поведал ему предок из Дабровы, до сих пор лежащий внутри горы, он прибил гвоздями к своему трону и разрешал читать ее всякому, кто обещал проповедовать это откровение и нести его дальше по свету.
Когда однажды к ним явился местный врач и стал интересоваться Откровением Йозефа, верная жена героически поклялась, что Йозеф никогда ничего подобного не писал. Врач, казалось, поверил ей, но с тех пор всякую бумажку, которую Йозеф по ночам испещрял письменами, она по утрам выбрасывала в печку. Когда Йозеф как-то случайно обнаружил это, – он просто потребовал назад только что по-новому открывшуюся ему и записанную им историю о трех волхвах, – то он сказал только: «Ну и хорошо. Предсказание исполнилось. Мы все закончим нашу жизнь в огне». Писать ему больше не разрешали, поэтому он замолчал окончательно, и вскорости его нашли мертвым на троне. В руке он сжимал маленький клочок бумаги, а на нем – несколько слов, которые никто не смог разобрать.
11
Променад, совершаемый Фридрихом Фонтана, начинался каждый день с некоего ритуала, который торжественно выполнялся на пороге дома и гарантированно собирал толпу зрителей. Сначала он поднимал взор вверх и оценивал погоду, потом одним точным движением насаживал на свою «балду» соломенную шляпу, лихо заломив ее набекрень, вынимал сигару из серебряного портсигара, затем решительным взмахом висящего на цепочке от часов сигарного ножика с перламутровой ручкой обрезал кончик сигары, вдохновенно подносил ее ко рту, при помощи спички поджигал специальную лучинку и начинал тщательно раскуривать сигару, делая короткие, но неторопливые затяжки. Когда сигара разгоралась, он с необычайной ловкостью тростью описывал в воздухе сложную траекторию и начинал прогулку.
Вся эта процедура, с годами доведенная до совершенства, производила впечатление циркового номера, отточено было каждое движение, все вместе складывалось в одно гармоническое целое, ровно через сорок пять секунд он делал первый шаг и при этом, хитро прищурившись, посматривал на довольных зрителей, ради которых, собственно, и задуман был этот совершенный в своем роде номер. В легком светлом сюртуке, в панталонах цвета беж, в белых башмаках и переливающейся всеми цветами радуги шелковой крылатке, схваченной бриллиантовой булавкой, он плавно плыл по городу, выписывая в воздухе сложные фигуры своей тростью.
Променады такого рода были его излюбленным занятием. Больше всего на свете любил он прогуливаться солнечным денечком по оживленным улицам, здороваться со старыми знакомыми, заводить новых, приглашать их выпить стаканчик вина да посидеть в прохладном дворике какого-нибудь питейного заведения и там, покойно положив руки на серебряный набалдашник своей трости так, чтобы непременно был виден красный агат на его золотом кольце, мирно болтать с другими посетителями, разглядывать прохожих, самому покрасоваться, поприветствовать всех и каждого, мастерски жонглируя своей шляпой. Он мог бы сидеть так часами, если бы не приятная необходимость продолжить променад, чтобы заглянуть еще в какое-нибудь уличное кафе, а это всецело зависело от положения солнца на небе и от проходящих мимо знакомых. Его блаженное, светящееся внутренней радостью и излучающее эту радость лицо расцветало за день от изрядного числа бокалов рейнского и мозельского, а он был известным знатоком и того, и другого. Он ненавидел долгие прогулки, ему вполне достаточно было Хофгартена как конечной цели путешествия, а парки Малькастена и Тонхалле, расположенные на самом краю старой части города, считались крайними пограничными пунктами его прогулок и удостаивались его усилий только потому, что там он мог под сенью старых деревьев весьма приятно провести время, болтая с художниками и сведущими в искусстве горожанами.