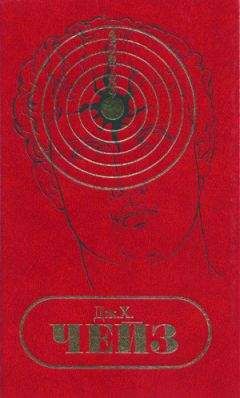Дитер Форте - Книга узоров
Она заботилась о муже, о сыновьях, но этого никто вокруг не замечал, она работала с утра до ночи, надежная, как часовой механизм, работала со спокойным терпением и молчаливой внутренней выдержкой, которую никогда не теряла на протяжении всей жизни. Она точно и серьезно выполняла изо дня в день свои обычные обязанности, полностью погружаясь в ту работу, которую делала в данный момент, причем делала всегда с такой тщательностью, будто каждое движение, наизусть ей знакомое, она выполняла впервые в жизни и потому сосредоточивалась на нем полностью, да, она всегда радовалась своей работе, и это придавало ее однообразному труду особую значимость, то достоинство, которое, пожалуй, ощущала только она.
Выпекая свой польский хлеб, тесто она месила целый час, не спуская с него глаз, да так усердно, будто это был некий святой обряд, с гордым смирением всецело отдаваясь служению тем людям, для которых работала, и в этом самозабвении не было ей равных.
Когда она стояла у плиты и орудовала раскаленными горшками, снимала их с огня или ставила на огонь, чтобы вовремя подать еду на сияющих тарелках; когда ей приходилось отдраивать на стиральной доске черные от угля, задубевшие от пота штаны и рубахи мужа и сыновей; когда она выжимала мокрое белье, выкручивая его своими сильными руками, а потом развешивала каждую вещь в определенном порядке на веревке в саду; когда гладила высохшее белье тяжелым утюгом, зашивала прорехи тонкими стежками; когда она с величайшей аккуратностью, с точностью до сантиметра, складывала те из вещей, которые называла своим приданым и на которых вышила свою монограмму – несколько простыней, пододеяльников, полотенец, – приглаживая их огрубевшими руками, потом укладывала их в особый ящик комода, опять легонько поглаживая ткань рукой, чтобы края белья легли ровнее, – это были для нее минуты счастья, которыми она наслаждалась в полном одиночестве и которые каждый день наполняли ее радостью.
Шахтерский поселок, который стоял среди чистого поля, недалеко от самой шахты, составлял весь ее мир. Она никогда в жизни его не покидала. Всю свою жизнь провела она в этом гетто из красного кирпича, где говорили в основном по-польски, жилье давали далеко не каждому, только забойщикам с большим стажем, и все они отлично говорили по-немецки, но польский был им все равно роднее, и дома они разговаривали по-польски, ведь дом есть дом. А если случалось ехать в Гельзенкирхен, то там тоже можно было пойти в польские лавки, где продавцы говорили по-польски, или в польский банк, если надо было отправить деньги на родину. Но Мария даже в Гельзенкирхен не ездила; если же надо было выправить какие-нибудь бумаги, она перепоручала это Йозефу, а сама оставалась в поселке. Она покупала все, что надо, прямо здесь, она знала каждый дом, каждого человека, знала о превратностях судьбы каждого в этом маленьком мире. Если она и выходила из дому, то только для того, чтобы проверить, не высохло ли белье, ровненько развешанное на веревке в саду, чтобы присмотреть за свиньей или насыпать корм курам, которые беспокойно квохтали в загородке. Она стояла и смотрела, когда Йозеф по вечерам копал огород, чтобы посадить картошку и капусту. По воскресеньям она наряжала детей, надевала свое лучшее платье и шла гулять по поселку, а когда погода бывала особенно хороша, то и по окрестностям, но не увлекалась, поскольку с одной стороны от поселка находилась шахта, а с другой – город и у Марии не было никакого желания видеть ни то ни другое. Ведь она осталась здесь потому, что ничего другого не искала, мир вне поселка и шахты для нее не существовал. Существовала только ее семья, дети, муж, дом, в котором все они жили. Большие города, железная дорога, корабли, другие страны и континенты – все это не имело для нее никакого значения, они ее не интересовали. Не читала она и газет. Она считала, что знает все, что ей нужно для жизни, и все, что происходит в мире и может повлиять на нее, она вовремя почувствует. Если случался кризис, мужу приходилось по праздникам выходить на работу или платили маленькую зарплату, она все равно была уверена, что справится с невзгодами, и не боялась. Если же заработки росли, она продолжала экономить, ни одного пфеннига не тратилось на безделицы. И далее если бы под гнетом обстоятельств рухнуло все, она выдержала бы и тогда, когда мужество теряли абсолютно все, – она встала бы утром и занялась делами насущными и никогда не задумывалась бы о завтрашнем дне, она работала бы целый день, а вечером, чуть живая от усталости, падала бы в кровать.
Вот так она и выносила все, что выпадало ей на долю, – и жизнь, и смерть, она по-прежнему трудилась, и отношение ее к работе не менялось. Она ухаживала за мужем и сыновьями, когда из забоя они возвращались полумертвые или смертельно больные, ходила за ними до самой их смерти, ухаживала и потом, когда они уже лежали на кладбище. Она работала ради своих внуков, постепенно состарилась, волосы у нее поседели, но держалась она всегда прямо, и ее старушечьи глаза по-прежнему печально, с тоской смотрели на мир, и когда однажды она заметила, что силы покинули ее, что работа теперь сильнее ее, что прежде в их поединке победительницей выходила всегда она, а теперь работа победила, то она опустилась на пол в углу спальни и стала биться головой о стену – и убилась до смерти.
9
Если смотреть с железнодорожного моста, то город странной кривой загогулиной лежал на берегу Рейна, который описывал здесь большую дугу. Рейн был могущественнее, чем город, он подчинил город (себе, и тот прижимался к реке с некоторой угодливостью, склонялся к ней подобно кривой башне городского собора Святого Ламберта, словно делавшей легкий книксен с вечной просьбой о том, чтобы следующее половодье затопило Нижний Рейн, но пощадило бы Дюссельдорф.
Лицом к суше, отвернувшись от Рейна, чтобы напрочь забыть о властительной реке, стояли небольшие домики, хозяева которых жили повернувшись спиной к воде и к плотинам. Они жили, работали, устраивали праздники, и надо сказать, праздников было немало. Поскольку времена были таковы, что особых причин для смеха не было, а за городской стеной тоже дивиться было нечему, ведь никаких крупных событий не происходило, – у жителей развилась замечательная способность прежде всего как следует посмеяться над собой, а также над мелкими превратностями жизни. Поэтому пьяный сосед с благостным выражением лица представлял для них замечательный повод для веселья, который нельзя было упустить. Такое веселье могло продолжаться годами, а чтобы не огорчать соседа, чтобы и он мог повеселиться вовсю, все вокруг напивались тоже и больше всего любили, если хозяйка после этого везла пьяного хозяина в тачке домой, а он бы еще и песни распевал. Соседи потом много лет подряд со смехом вспоминали о таких вот происшествиях. Забавы жителей были весьма скромны, но поскольку они обставлялись всяческими церемониями и граждане предавались им с большой обстоятельностью, то в городе уж никак не могло появиться слишком строгого отношения к труду, для такого отношения просто не было никакой почвы.
Не успевали горожане приняться за какое-нибудь дело, чтобы со всей ответственностью, то есть никуда не спеша, его выполнить, как начинался какой-нибудь карнавал, или ярмарка, или стрелковый праздник, к этому можно добавить целую серию именин в честь всех святых и не очень святых, христианские и нехристианские праздники, торжества в честь создания разнообразных обществ и юбилеи, когда уже сама обстоятельная подготовка к торжеству превращалась в праздник. А кроме того, были ведь еще и семейные праздники, на которые съезжалась вся окрестная родня, чтобы отметить дни рождения, именины, крестины, похороны, стараясь заодно и Дюссельдорф посетить. Не успевали у городских ворот проститься с одним родственником, как являлся следующий, везя гостинцы – сало и ветчину, картошку и капусту, а если в кои-то веки вдруг совсем никаких праздников не было, тогда хозяин какого-нибудь трактира откупоривал новую бочку, и огорчить его невниманием было никак нельзя.
Временами, когда с кем-нибудь случался удар, человек с удивлением обнаруживал, что жизнь-то прошла, но все равно умирал стойко, потому что здесь глубоко укоренились взгляды, которые были возведены в ранг своеобразной философии; один из постулатов гласил: «Ничего не поделаешь, такова жизнь. Прими ее такой, какая есть, и не робей, живи». Возразить на это было нечего, да никто и не возражал, истинность постулата признавали все. Так что и плохие, и хорошие времена они принимали с равным благорасположением, ибо, во-первых, изменить все равно ничего было нельзя, во-вторых, что есть, то есть, а в-третьих, что ты ни делай, все будет неправильно. Вооруженные жизненной философией, которая благополучно передавалась из поколения в поколение, горожане, как правило, с благодушием переносили уготованные им невзгоды – будь то собственная судьба или же политические перемены. Случались хорошие времена – и все считали, что, конечно, могло быть и лучше, но придется довольствоваться тем, что есть. А случались худые времена – и все считали, что все могло быть и хуже, поэтому надо радоваться тому, что есть. Таким образом, все предпочитали в жизни золотую середину, и это заставляло воспринимать события с изрядной долей скепсиса, но и с неменьшей долей юмора. «Питер, Питер, не робей, чарку полную налей!» – с такими самодельными плакатиками, которые всем очень нравились и надежно гнали всякую тоску прочь, все эти Питеры и их жены расхаживали по городу и провозглашали, обращаясь друг к другу: «Если нельзя ничего изменить, значит, так тому и быть».