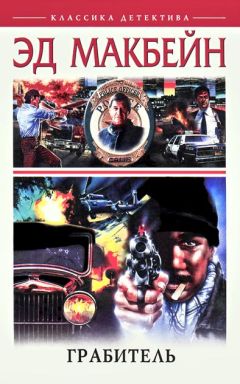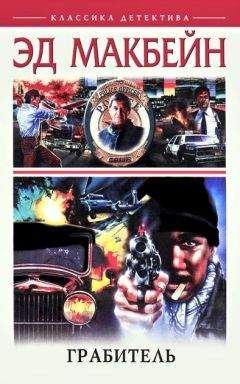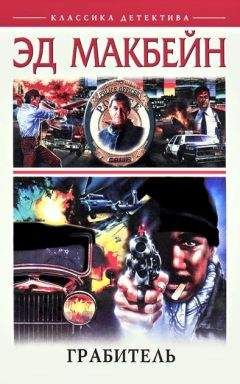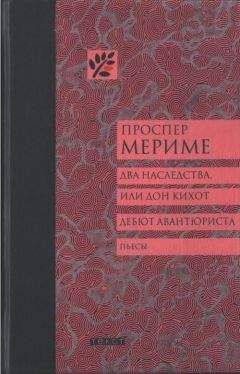Андрей Осипович-Новодворский - Эпизод из жизни ни павы, ни вороны
«Тук-тук-тук» — раздавалось по всему дому, и кровь сильнее забегала по моим жилам, и, словно эхо, вторили глухому шуму удары сердца. Неожиданная встреча с Марьей Андреевной, нахлынувшие толпою воспоминания, впечатления утра — всё это значительно взволновало меня.
Завтра уже не на что купить конины; последний пятак издержал на газету. Чая нет, сахар на исходе. Прачка любезно объявила, что нанесет визит и надеется заполучить quelque chose. Один мой товарищ хохол очень любит употреблять французские слова: «Наклали quelque chose в шию»… Эх-ма!..
Тук-тук-тук!..
Говорят, испарения мяса очень здоровы… Ах, эти мелочи — ужасно они надоедают! Скорей бы покончить со всем этим… Что значат странные теории Злючки? Испытал ли он такое же всепоглощающее стремление жить, стремление уяснить себе свое отношение ко всему окружающему? Ему кажется всё так ясно, просто…
Тук-тук-тук!..
Недавно получил письмо от сестры. Мать больна, Надя выходит замуж. Надо, говорит, матери помочь… Бедная! Что же я-то? «Что я был и что стал?» Придвинулся ли я к решению своих жизненных задач? Не похож ли я на кругосветного путешественника, отлучившегося в самом начале своего пути за водою и завязшего в болоте? Ах, сколько «вопросов»!
Тра-та-та-та!..
— Перестаньте вы, ради Бога!.. Житья мне от вашего стуку нет! Потолок, что ли, провалить хотите?
Это моя соседка с нижнего этажа, «молодая благородная особа» со следами кислой капусты на обнаженных руках. Ее восклицание, судя по выражению нервно вздрагивавших губ, представляло только квадратный корень из того негодования, которым было наполнено всё ее существо. Вообще нет создания прозаичнее «благородной особы», когда она засучит рукава, подопнет юбку и возится у печки с ухватами: ей кажется, что кипеть могут только щи, а пениться — только молочная каша.
Я смотрел на «молодую благородную особу» восторженными глазами, подняв на воздух оба шара, вследствие неожиданности ее появления.
— Стыдно вам, право… Да и что бьете-то? Совсем вон тесто сделали.
Она укоризненно указала пальцем на мою конину и вышла, снисходительно хлопнув дверью. По всей передней поверхности сундука действительно размазалось какое-то тесто.
Марья Андреевна лежала на кровати, глаза были закрыты, губы сжаты, и лицо горело.
Я отложил попечение об обеде, сел к окну и хотел поймать за хвост «нечто». Но «вопросы» не поддавались анализу и уяснению: они превратились в темную тучу, которая то осветится, как молнией, блеском сознания, то вдруг станет еще темнее, чтобы через минуту вспыхнуть и осветиться в другом месте.
— Как вы обо всем этом полагаете? — с чувством полнейшей беспомощности обратился я наконец к своей гостье.
— О чем?
Удивительно, как иногда могут конфузить самые простые и короткие вопросы.
— Я так… хотел узнать, спите ли вы? я, кажется, очень стучал?
— Ничего. Я закрыла глаза и мечтала под звуки ваших шаров.
— Мечтали?
— Чему ж вы удивляетесь? Разве жизнь не мечта? Я вот приехала учиться, работать… ха-ха! Разве это не мечта? Вы любите ту… уморительно! Тоже мечта!
Она меня испугала. Лицо ее пылало, глаза горели лихорадочным блеском. Не было сомнения, что она начинает бредить.
— Марья Андреевна! Что с вами, голубушка? Вы простудились?
Она забормотала какую-то бессмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я расстегнул ей юбку, снял башмаки, чулки, сильно заштопанные на пятках и с влажными, желтыми пятнами на подошвах, вытер досуха худые, почти детские ноги и прикрыл их одеялом, то есть проделал всё то, что, при других обстоятельствах, могло бы составить весьма пикантную «страницу романа»; потом обмакнул в воду полотенце и положил ей на голову. Она видимо успокоилась и посмотрела на меня вполне сознательно.
— Скажите, где я? А, помню… Я вам наделала хлопот? — Она силилась улыбнуться. — Я вам очень, очень благодарна… мне кажется, это скоро пройдет… Завтра, наверное, можно будет встать.
— Конечно… Только вы не тревожьтесь; постарайтесь, если можете, заснуть. Не нужно ли вам чего?
Ей ничего не нужно; впрочем, она выпьет воды. Вот так, хорошо. Теперь она заснет.
— А тебе, ангел мой, хорошо бы в сестры милосердия поступить!
Я вздрогнул и обернулся. Злючка спокойно сидел у двери, в углу, сидел, по-видимому, уже долго и корчил насмешливую гримасу.
Никогда еще не чувствовал я такой обиды. Смеяться над человеком в самую, можно сказать, торжественную минуту. Я подошел к нему и прошептал самым гневным образом:
— Послушай, Злючка! В тебе ни капли жалости, ни капли чувства нет! Ты… ты…
— Это хорошо, друг мой, что ты злиться начинаешь, — прервал он меня с самым убийственным хладнокровием. — А насчет чувств ты ошибаешься: чувствовать мы можем, только у нас с тобою разные точки чувств…
Я не возражал. Мне противен был его голос. Он подождал минуту, как бы наблюдая, какой эффект произведет на меня его фраза, и продолжал:
— Бывают разные точки чувств, как и разные точки зрения. Я тебе поясню это примером. Положим, мы с тобою наталкиваемся на какую-нибудь безобразную сцену: ну, например, кто-нибудь связанного человека по зубам бьет. Ты, сестра милосердия, сейчас бросишься к жертве, начнешь утешать ее ласковыми словами, приложишь компрессы и забудешь… Ну а я, брат… — Он вдруг встал, выпрямился и резко возвысил голос. — Я… не забуду!
— Но ведь зато ты забудешь о жертве?
— Забуду о жертве.
Он снова сел и насупился. Так как вопрос перешел на теоретическую почву, а «молодой человек» не может пройти мимо теоретического построения, чтобы не поспорить, то я немедленно начал возражать.
— Ты взял неудачный пример. Представь себе лучше толпу странников в лохмотьях, с окровавленными ногами, с потрескавшеюся кожею и высохшими от зноя губами. Как ты к ним отнесешься? Ведь против стихий ничего не поделаешь.
— Ишь, обрадовался! Думал — поймал. Аркадия! Отнесусь вовсе не так, как ты. Какой-нибудь раздушенный мальчик мог бы даже расплакаться, когда узнал бы от няни, что у твоих странников нет ни чаю, ни хлебца, ни теплой кроватки. Ну а мне на это наплевать! Сам видывал виды!
— И ты будешь спокойно наслаждаться своими сапогами при виде этих окровавленных ног?
— Нет. Что еще?
— И твои сапоги не будут тебе давить ног, как тисками?
— Будут.
— Ну, чего же тебе еще? Ты снимешь сапоги и отдашь их одному из нуждающихся? Во имя чего же ты сие любовное деяние совершишь?
— Во имя злости, ангел мой! Ты маленечко ошибся: я не отдам сапог, а ежели сброшу их, то вышвырну к черту! — сброшу, ежели замечу, что стук их заглушает для меня другие звуки… Однако я с тобой заболтался. Пожрать нечего?
— Нечего: испортил мясо.
— Ну, ничего. Посмотреть на твою барышню…
Он подошел к больной, пощупал пульс, слегка послушал грудь и сделал это так ловко, что она не проснулась.
— Через несколько дней умрет. Ты бы, брат, спровадил ее куда-нибудь, пока еще есть время.
— С какой стати?
— А с такой… Коли не ошибаюсь — Марья Андреевна?
— Ты почем знаешь?
Он не ответил и ушел, оставив меня в самом скверном настроении духа. Марья Андреевна проболела недели две и умерла.
«Опять на родине!..»
От станции железной дороги до N верст пятьдесят. Это пространство я должен был отмахать пешком.
День на беду выдался дождливый, серый. Дорога намокла и представляла густую, черную кашу. Холодный ветер пронизывал меня до костей. В природе не было ровно ничего, что могло бы придать мне бодрости. По небу неслись тяжелые, свинцовые тучи, поля изображали громадную площадь буроватой грязи, редкие деревья по дороге глядели сиротами, и дождик, как жестокий опекун, безжалостно ощипывал убогие остатки пожелтевших листьев. Резвые мои ноженьки с трудом переступали по распутице и до невероятности неприятно чавкали…
Со мной не было Злючки, но голос его тона мерещился. И отчего он мерещился? Ужасный человек! Зачем ты, как коршун, подстерегаешь свою добычу? Зачем ты являешься в минуты, когда и без того «душа моя мрачна…»?
Между смертью Марьи Андреевны и моим путешествием прошел почти год. В это время много воды утекло, много маленьких перемен совершилось. Внешний вид нашей квартиры остался, впрочем, тот же: тот же плетень, те же горшки, те же шаровары, та же свинья с поросятами, тот же унтер курил ту же трубочку. Но какие перемены были внутри! Как одна и та же оболочка может менять свою сущность! Вы видели человека, молодого, горячего, пылкого, жаждавшего подвигов и дела; вы удивлялись богатству его душевных сил; он производил на вас впечатление тропической природы, нагромождающей с безумною роскошью свои произведения одно на другое. Вы столкнулись с ним чрез несколько лет: внешность почти та же, но на душе у него всё выгорело…