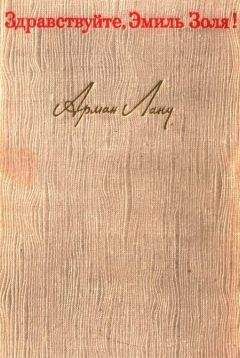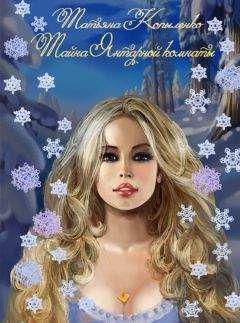Арман Лану - Пчелиный пастырь
Прожектора ПВО разложили пучки своих лучей, и теперь обрыв облит желтым светом. Прекрасная ночь для летчиков. Дорога к св. Иакову переливается бриллиантами, точно под струями алмазного дождя. Тут только Эме замечает, что он голый. Голый человек проводит ладонями по груди, на которой отчетливо вырисовываются словно высохшие мускулы. Проживи Эме еще немного в Померании — и он мог бы стать моделью «Положения во гроб»! Когда мужские принадлежности вяло свисают, честолюбивых планов строить не будешь. Голый человек вслушивается в вековечную ночь. Чью-ююйю. Он вспоминает. Одну из ящериц Анжелиты, тех самых ящериц, которые покинули циферблат башенных часов, — от Натали он узнал их научное название, только теперь он позабыл какое…
Глаза начинают привыкать к такому вот поддельному, неестественному дневному освещению. В этом шафрановом свечении застыла ящерица цвета олова. С неизъяснимым волнением смотрит Эме на злую головку пресмыкающегося, на длинный хвост маленького крокодила, на звездообразные лапки, прижимающиеся к стене. Плоская, чудесно плоская ящерица больше не двигается. Голый человек больше не двигается. «Ююйюй», — жалуется ящерица. Часы прозванивают три раза, их серебристый звон плывет до самого Трока, до Дуна, до Пюига дель Маса… В воздухе стоит запах мирта, как и в ту, теперь уже такую далекую, ночь в Портус Венерис.
Чью-юю, ночью, ночью, ночью, ночью…
Ящерица стрелой метнулась в правый угол. Головка вытянута. Язычок тоже. Она заглатывает мошку. Милая ящерица, ящерица из прошлого, ты живешь своей жизнью… Спасибо… Эме хорошо на этом обрыве. Голый человек принимает лунную ванну. Машинально поглаживая рубец, который болезненно саднит, голый человек снова обретает путь в настоящую жизнь — путь, пролегающий через «Первые такты сарданы» с этими бандитами. Надо быть как ящерица (но как же все-таки называла Натали эту малышку?) — выжидать неподвижно, выжидать момент, чтобы прыгнуть, чью-юйю, юн… Ло-ги-и-и-и…
VII
Пюиг не ошибся, полагая, что именно в Зеленом кафе он видел Лонги и несчастную Анжелиту.
Это было в праздничный день 1938-го, когда все вокруг дышало сарданой. Сюда изволил прибыть супрефект Сере, чтобы приветствовать Майоля — славу своего округа. Можно было подумать, что этот пятидесятилетний зануда в белой куртке, в колониальном шлеме и в голландских очках, этот новоиспеченный чинуша-северянин принимает Руссильон за какой-нибудь Сенегал! Он был земляком Лонги — родился он в Лилле, в фешенебельных кварталах текстильных магнатов, рядом с церковью св. Магдалины! Лонги никак не мог припомнить его фамилию. Майоль тоже не мог запомнить эту фамилию, которую обволакивал запах ванили. Ван Гутен? Да нет, это шоколад! Вандервельде? Ван Тигем? Возможно… Да, должно быть, Ван Тигем… Анжелита и Эме пили тогда сезонный напиток — перногренадин, попросту говоря — томатный. Перед Майолем стоял стакан «булусской воды».
Мало-помалу эта сцена восстанавливалась в памяти Лонги так, как если бы каждое из ее действующих лиц, собравшихся в тот день в Зеленом кафе, пожелало разыграть скетч в духе Альфонса Доде или Паньоля. Быть может, все они, кроме Лонги, «переигрывали», возможно, весь этот спектакль и разыгрывался ради единственного зрителя — ради Лонги. Эме нужно было время для того, чтобы понять, что здесь всегда так, что кафе — это, б сущности, театр, особенно на Юге, где каждый играет ту роль, которую сам выбрал, или же ту, которую ему навязали другие.
— Ну знаете ли, господин Майоль! — говорил, слегка пришепетывая, супрефект. — Вы меня просто удивляете! Можно подумать, что вам не доставило ни малейшего — удовольствия то, что я вам сообщил!
Аристид Майоль поднял руку, изъеденную гипсом, руку, слишком хрупкую для человека, который не боялся сам обтесывать глыбы; у него было худое, изможденное лицо, слишком маленькое для большой белой бороды, и твердый, очень длинный нос; голову увенчивал темно-синий берет. Несмотря на то что тогда ему было семьдесят семь лет, у него все еще было обличье могучего патриарха, имя которого на местном наречии означает «молодой виноградник».
Он подождал, когда воцарится молчание, для того чтобы его реплика прозвучала и не потонула в гуле голосов, и процедил:
— Нет, нет, господин префект, вы доставили мне удовольствие. Не я старый человек, господин префект.
Супрефект напыжился. Он метил на пост начальника канцелярии префектуры, и назначение принесло ему разочарование. Когда же его по праву будут величать господином префектом? Но эти южане легко увлекаются метафорами, и приходится начинать все сначала! Он, уроженец Лилля, северянин, должен проявить энтузиазм.
— Позвольте, господин Майоль, вы несправедливы…
Старик поднял густые белые брови в форме перевернутой римской цифры V, обнажая над своими маленькими незабудковыми глазками бело-розовую карту жилок.
— Что вы этим хотите сказать, сударь?.. Простите, я запамятовал вашу фамилию…
— Ван Тигем. Да, господин Майоль, вы не должны жаловаться на своих соотечественников, даже на своих современников! Памятники в Пор-Вандре, в Сере, в Эльне, Морской грот, префектура… А мы хотим поговорить с вами о том памятнике, который превзойдет все остальные, — о памятнике на хуторе Рег!.. Между горами и морем! О памятнике, достойном вашего гения!
Несмотря на комплименты, вскоре стало ясно, что план этот — план сумбурный, что он родился неизвестно где, явно в генеральном совете департамента, и что цель его — прославить Руссильон с помощью, само собой разумеется, государственных кредитов. Патриарх вошел в роль.
— Я хочу сделать вам одно признание, господин Ван Гутен.
Супрефекта передернуло, но поправлять Майоля он не стал.
— Вы видели большие бутылки из прекрасного зеленого стекла, в которых на хуторе Рег прогревается на солнышке Баньюльское вино?
— Правду сказать, еще нет — это ведь всего-навсего мой второй приезд в Баньюльс, и к тому же у нас уйма хлопот — рядом граница!
— Так вот, господин префект, — (в устах патриарха «господин префект» звучало так, будто речь шла по меньшей мере об архонте, о некоем светском иерархе и даже о проконсуле из Парижа — этого современного Рима, проконсуле, прибывшем для того, чтобы побеседовать со старейшинами из самых отдаленных провинций империи!), — эти бутылки, в которых зреет на солнце лучшее, что досталось нам в наследство от предков и что составляет славу Баньюльса…
Он смаковал длинный период, и слова перекатывались, как галька, во рту у этого Демосфена с Алого Берега — все эти «бутттылллки», «пррредкоффф» — настоящий поток, образовавшийся после ливня!
— …эти бутылки не что иное, как гигантские капли медвяной росы, оставленные финикийцами — нашими славными предками! Здесь всему по меньшей мере три тысячи лет, начиная с меня, господин Вандервельде…
Супрефект возразил робко — он был напуган внезапной высадкой финикийцев:
— Ван Тигем…
— Простите, господин Ван Тьегем, я не смеюсь, я просто хочу сказать… что к старости становятся крепче вина, а не люди.
— О господин Майоль, вы обладаете силой Геракла!
Супрефекту очень хотелось вернуться к прежней теме, но уже с точки зрения гуманитарных наук. Финикийцы потрясли его, воистину они распространились по всему Средиземноморью…
Майоль в пылу своего великолепного опьянения продолжал:
— Лет десять назад я пустился бы в пляс босиком прямо по земле, как Пан в своей козлиной шкуре, и слушал бы ваши комплименты. Но увы, господин префект, успех пришел ко мне, когда я уже слишком стар. Это правда, поверьте мне…
Несколько мыслей переплеталось в этой речи. Конечно, супрефект имел кое-какие основания говорить о славе скульптора. Но тот все же не мог не чувствовать горечи своего триумфа в области надгробных памятников. Он не забывал также о том, что лет до пятидесяти оставался неизвестным, во Франции. И еще дольше его не знала Каталония. И так бы оно и продолжалось до нынешнего лета от Рождества Христова 1938-го, если бы не немцы и не его друг граф Кесслер. В его шутке просачивалась обида.
— До сорока с лишним лет я считал себя живописцем! Это была моя ошибка! Досадно, что я взялся за скульптуру так поздно, — я своротил бы горы! О, я не шучу! Поднимитесь на хутор Рег, где вы задумали поставить этот памятник. И посмотрите на баньюльскую двустворчатую раковину. Вырез бухты, выпуклости двух заливов — меж Дуном и Малым островом, меж Малым и Большим — это ягодицы Афродиты! И кроме того, я чту представителя Республики, единой и неделимой! Сходите, сходите туда!.. Посмотрите на дома, напоминающие кости домино!.. Посмотрите на отроги Альбера и башню Мадлош над Коллиуром и на виноградники! Это картина Пуссена, только еще прекраснее!
— Это верно, — произнес человек в белом. Ваш Руссильон восхитителен. Правда, тени маловато, но в конце концов…