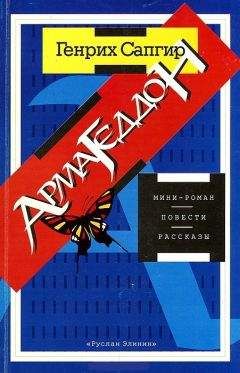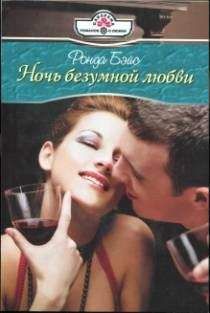Генрих Сапгир - Летящий и спящий
На сцене остались одни усики, косы, реплики, шнурки. Ничего, пусть личины играют, а мы посмотрим. И если кто-нибудь там из них, то есть из нас, и умирает, то можно лишь поаплодировать. Такая роль. Я сам, помню, три раза кончал самоубийством. Но ценность все это имело только для той роли, которая играла меня. Значит, и жалеть себя мне было нечего. Мало ли какие актеры будут меня играть, может быть, дурно, провинциально, с аффектированными жестами, с завыванием. Так мне их всех и жалеть? Нет, поскорее выйти отсюда, из этих воспоминаний, которых все равно нет.
А ложная память торопится, спешит взгромоздить кучу декораций: легкие дворцы из фанеры, шкафы и вазы из папье-маше, горы, леса и небо на холсте… Нет, этого слишком много, и жить здесь невозможно, все ненастоящее, все только память. Многие, правда, всю жизнь обитают среди кулис и пыли, но сами они только призраки и все время должны заученными речами доказывать, что еще существуют. И, путаясь в воспоминаниях, как в темных грубых полотнищах, оступаясь в темноте, я все-таки нахожу светлую щель. Толкаю наугад дверь и вываливаюсь —
5в движущийся вагон метро.
Медленно иду по тускло освещенному как-то исподволь вагону. В окнах с обеих сторон вопреки ожиданию не текут бесконечные шланги и трубы, не мелькают редкие огни в тоннеле — там черно, но потряхивает, побалтывает, что-то обо что-то запинается, так что движение ощущается. Все нарастающее, через некоторое время все это позвякивание превращается в слитный гул-звон.
Сам вагон как бы стремится к бесконечности — иду и все как будто стою на месте: все те же кожаные сиденья, уходящие вдаль. Вижу все выпукло-кругло, как при киносъемке рапидом. И неизвестно откуда появляются, стремительно наезжают растянутые пузырями лица-страшилы.
Я узнаю их. Еще в детстве я их увидел и узнал, лежа в постели с головой под шерстяным одеялом. Одеяло колется, а ты зажмуришь глаза и видишь их. Сначала неясное пятно, затем чьи-то черты, неприятные, пугающие. Вот они с черными провалами глаз и щек глядят в меня и насквозь. То ли уродец-дитя, то ли собака-овчарка, то ли большелобый мудрец, переплывающий в зияющий череп. Черными ямами глаз он все время наезжает, вбуровливается в меня. И дальше насквозь в ином пространстве-времени угадывается другое лицо, разумное, с выпуклым белеющим лбом, с темными впадинами глаз, щек и рта.
И еще настигали меня странные послания. Почему на фотографии смеющейся девчушки я видел сбоку козью морду? Почему на другой карточке благородная овчарка переплывала в кривляющееся лицо клоуна с острыми ушками? Обманулось-обмишурилось зрение?
И теперь в длинном уходящем вдаль вагоне, похожем на трубу, я увидел их всех. Их лица были зыбко неопределенны: то высовываясь из рисунка рекламы, то угадываясь в пятне на потолке вагона, то выделяясь узором на дерматиновой обивке сидений. Не друзья и не враги, они показались мне все разом, может быть, наши тайные учителя, чтобы я всегда имел их в виду в том человеческом мире, в котором я еще находился, но из которого, как пуля в полете, я стремился к следующей двери вагона, которая если не отворяется в пустоту, то выведет меня…
6В фанерный тамбур, где клубится морозный пар под голой лампочкой, будто я вошел сюда с улицы. Я толкаю следующую обитую зеленым дерматином дверь и оказываюсь в длинной казарме, уставленной двухъярусными койками.
Я иду по широкому проходу, пол отмыт добела, даже каждая щербина промыта. Не дай бог, старшина заметит грязь и заставит все перемыть сначала. Не на чем остановить глаз: относительная чистота и тяжелый дух.
Кругом спят. Тяжело, беспамятно, бог знает сколько времени. Тела распластаны, как куски сырой глины, и еще только намечены, не вылеплены в деталях. Кажется, потяни кого-нибудь за руку, и она отпадет, шлепнется на пол непропеченным шматом.
Ни старшины, ни дневального не видно. Заперлись, верно, в каптерке: пьют или краденое считают. И я прохожу дальше, толкаю темную дверь с торца, мне ведь туда и надо, недаром под мышкой пластиковый пакет: мыло, мочалка и полотенце. Я ведь и шел сюда помыться, естественно…
7Меня обдает влажным теплом и мочальным духом. И дверь выталкивает меня в гулкий помывочный зал. Свет проникает сюда сквозь узкие длинные окна высоко вверху, но его явно недостаточно — тонет в банном тумане. Под бетонными и влажными сводами тускло сверкают лампочки, высвечивая стены, усеянные мириадами блестящих капелек, точно колонией каких-то бриллиантовых насекомых.
Гулко шваркнула шайка, покатившаяся по кафельному полу. Я уже раздет, голый, я ощущаю свою немытость, телу неловко, непривычно, негде спрятаться от себя. Странно, это как телесная совесть, вот что.
В нерешительности останавливаюсь перед мокрой лестницей с налипшими березовыми листьями, ведущей наверх в парную. Оттуда слышатся азартные восклицания, душераздирающие крики. Кого-то определенно режут и мучают, он испытывает от этого удовольствие, наслаждение, блаженно охает и всхлипывает.
Сам не помню как, будто подхватили меня под руки крылатые, я взлетаю по ступенькам, оскальзываюсь и почти падаю в горячий туман. А меня уже волокут выше по каменным ступеням на антресоли под потолок. Жар — невозможно дышать. Дышу, как рыба на суше. Кто-то кричит: «Поддай!» И поддают.
Меня укладывают на каменный полок, и начинается. Господи, я и не знал, что я так весь измазан, изгажен не деяниями, так помыслами. Не самими помыслами, так уровнем своих мыслей и поползновений. Так пусть же хлещут и хлещут веники, нагнетая и нагнетая нечеловеческий жар! И чем ярче боль и сожаление, тем блаженнее, будто кто-то из меня вылупляется, новый, нежный и незнакомый. Я всегда знал, что он во мне сидит.
Меня обдают прохладной водой. Сижу на полке, отдыхаю. Рядом таз, в тазу мочалка в мыльной взбитой пене. Зачерпываю толику пены и начинаю себя тереть грубой мочалкой. Боже, кажется, смыл свою руку и часть груди. Может быть, я слишком ретиво тер. Осторожно двигаю мочальным спутанным комом ниже и ниже, смывается живот и нога до колена. Волосатая промежность полусмыта — полутуманно видна, и с отчаянной решимостью я смываю себя всего до кончиков пальцев на ногах.
Разгоряченный, больно нахлестанный, ощущаю истому и радость, все земное, перстное уже смыто. Приятно медлить, ополаскивая себя водою забвенья. И мысленно снять прилипший темный березовый листок, чтобы уже ни пятнышка не осталось…
Но дверь уже видна мне в банном молоке. И со скрипом отворяется передо мной — перед кем?
8Сразу понимаю, что это помещение не для людей. Углы двоятся, троятся, стены отступают, уходят вдаль, открывая далекие перспективы, снова вырастают, пересекаются под косым углом, по-футуристически, надвигаются и проходят насквозь.
В пространстве близко ли, далеко — непонятно мелькали существа, похожие на бабочек-капустниц. С одной из них я и заговорил. Беззвучно, одним желанием заговорить, потому что и бабочек не было, одни трепетания воздуха и пространства, условно считая это пространством и воздухом.
Я сказал, что представлял себе нечто подобное. Но вечно быть светом и трепетом в пустоте? Все же мне гораздо ближе человеческое. А где и как ему здесь проявиться?
Трепет отвечал довольно прохладно, что для нас, вообще для живых душ, хоть для ящерицы, вечности нет и не может быть. Для нас грандиозные циклы, и не успеешь соскучиться, как надо изменяться.
Это мне было понятно. Я спросил, всюду ли это?
Есть Вселенные, которые спят, отвечал трепет. Есть, которые просыпаются. А есть, что излучаются мириадами солнц, планет и существ, и это тоже трепет и свет. Так не лучше ли быть этим в чистом виде?
Мне стало страшно, на меня нахлынуло до того огромное… Боже, я только прикоснулся краем знания… Конечно, мы были несоизмеримы, и оно — Существо, скажу, больше, Бытие меня подавляло совершенно… Моя искра исчезала во всем этом… Но, бесконечно робея, я все же осмелился пожелать узнать, а что же мы, что же я, душа человеческая? Можно ли заглянуть в себя до самого донышка, а?..
Воздушные линии заколебались, замелькали передо мной все быстрей, между ними обозначилась косая трапеция, я понял: это дверь. Сам не знаю, как я проскользнул в нее, выскочил из этого трепещущего пространства, которое и обозначить-то никак нельзя, в —
9полуподвал с низким каменным потолком.
Дверь медленно затворилась за мной, и я сошел по мраморным ступеням вниз в склеп.
Я слышал, как снаружи задвинулся ржавый железный засов. И даже понимая, что засов не мог задвинуться, никого снаружи не было, потому что самого «снаружи» не было, все равно я слышал, как почернелый язык плотно вошел в квадратную петлю на винтах.
На возвышении на подставке стоял гроб из темного зеркального лабрадора. Ни жестяного веночка, ни огарка церковной свечи, ни намека на какое-нибудь лживое сентиментальное воспоминание, хотя бы клочок белой шали, мелькнуло и выветрилось за ненужностью, потому что и гроба в прямом смысле здесь не было. Ничего человеческого, я чувствовал. Но для меня все-таки был гроб, видимо, из снисхождения ко мне. И это не спасало.