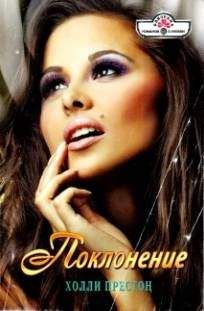Иван Зорин - Дом
− Ещё один, − безнадежно перекрестился Архип.
Нестор пропустил мимо.
− А делить вам нечего, у вас разные боги − Иешуа и Иисус, это, как говорится, Федот, да не тот.
Архип застонал.
− Успокойся, служка, это не проповедь, хочешь − заткни уши, я не обижусь.
− Обижусь я, − Исаак выпустил кольцо сизого дыма. − Если не объяснишься.
− Может, и на дуэль вызовешь? Как тысячу лет повелось? А из-за чего? Нас, славян, крестили не водой и мечом, а книгой, мы вроде мальчишек, начитавшихся рыцарских романов про благородных идальго. И верили, и грезили, вкладывая в этих идальго самое светлое и чистое. А евреи грязное белье понюхали: и грязь первородную, и грех содомский, и кровосмешение. Разве библейские патриархи такие, как на картинах? Резали, как мясники, в пустыню загнали — ни один не вышел! А мы чистюлями оставались, вроде Архипа, чтобы не запачкаться, вытирали каждую страницу, головы себе морочили, выдумывая разные аллегории. А от любой страницы вздрогнешь!
− На то и Новый завет! − взвизгнул Архип.
− А Христос пришёл не отменить старое. А исправить. Что? Первородный грех? Многожёнство?
Архип сник. А Исаак прикурил от сигареты:
− Пришла раз старуха в синагогу, молится: «Тяжело, Господи, жить, только на твою помощь и уповаю!» А сверху голос: «Так это Я тебе ещё помогаю!»»
− А это к чему? − втянул шею Нестор, так что змеиная головка легла на плечи.
− А к тому, что скользкий ты, на словах всех примиришь… А как же правда?
− Правда? Правду говорят только часы, и то − или спеша, или опаздывая. А я тебе другую притчу расскажу. Даёт врач таблетку, а после спрашивает: «Помогла?» «Не очень». «Помогла, без неё бы ты давно умер». Вот, поди, разбери, у кого правда.
И удалился, насвистывая, будто подзывал убежавшую собаку.
Разговор странно подействовал на Архипа, в чьём сознании слова Исаака и Нестора переплелись, слившись воедино, и он подумал, что Бог — та же таблетка, которую прописывают сразу от всех бед, что рецепт нести крест заслоняет от мира, но от себя не спрятаться даже крестом.
− А есть ли другая правда? — вместо приветствия продолжил он разговор, подловив во дворе Нестора. — Кроме таблетки?
− Есть, конечно, − подмигнул домоуправ. — Другая, как зуб мудрости, лезет — караул кричи, а прорежется — вырывать придётся.
С тех пор у Архипа пропал голос, он забыл все псалмы, а угодников перечислял, сбиваясь через одного. Зато голос прорезался у Антипа — чистый, звонкий. О чем бы ни заводил речь Антип, всё сводилось к тому, что жить надо тихо, а умереть во сне. Что бы теперь ни говорил Архип, за этим слышалось: «Жить нужно весело, а умереть на скаку!» «Какая там правда, − вспоминал он Исаака и Нестора, болтая ногами на лавочке во дворе, − раз на один предмет смотрят по-разному». А он сам? «Мой дом большой и красивый!» − выводил когда-то школьные прописи. «Холодный и чужой, − окидывая его напряжённым взглядом, думал сейчас. — А моя в нём одна квартира».
После исчезновения Ираклия Голубень его жена Саша Чирина стала как треснувшая ваза, из которой вынули цветы, сосредоточилась на воспитании сына. Чередуя кнут с пряником, она отдавала предпочтение первому, так что Прохор с рёвом убегал из дома, то утирая кулачком слёзы, то грозя им матери: «Не на того напала!» Ещё лежа в колыбели, он думал о себе, об окружавших его людях, склонявших к нему в кроватку лица с натянутой, фальшивой улыбкой, видя их безмерную усталость, их бессмысленные страдания, вывел целую философию, которую, однако, не мог выразить словами своего бедного языка. Он дёргал мать за подол, поднимая голову, отчаянно кривил рот с молочными зубами, бубнил, лепетал, агукал, пытаясь сказать следующее: когда живут, то ходят из одного пункта назначения в другой с какой-то неясно заданной целью, а, когда, выбившись из ритма повседневных занятий, умирают, то покупают билет на корабль, не имеющий порта приписки, бродяжничающий Летучим Голландцем по морям, и продолжают набираться впечатлений, так недостававших им в жизни, но смерть есть смерть, и её ужас заключается в том, что им не с кем в ней поделиться. А бывает, что такое случается ещё при жизни, которая несёт тогда в себе частицу, зародыш смерти, всё больше проступающую, как тьма сквозь неясный свет ненастного вечера. Жизнь и смерть — это сообщающиеся сосуды, которые соединяет одиночество, призраком маячившее в первой и жадно обнимающее во второй, одиночество, чью горечь приходится испить до дна, прежде чем, смирившись, вкусить его сладость. Но мать не могла пробить стену его одиночества, точно он не стоял перед ней из плоти и крови, а уже умер, она только нервно одёргивала юбку, сажая на колени, качала, напевая колыбельную, слова которой казались ему глупыми и пустыми, а затем, взяв на руки, относила в кровать, бережно укрывала одеялом, чтобы потом, поцеловав в лоб, выключить свет. И он, таращась в кромешной тьме, ещё долго не мог уснуть, думая о себе, об окружавших его людях, которые с утра склонят к нему лица с фальшивой улыбкой, укоренялся в своей философии. А когда достиг совершеннолетия, не ладивший с Ираклием Голубень при его жизни, из чувства протеста удлинил фамилию, став Чирина-Голубень. «Человек с двойной фамилией — человек с двойным дном, − предостерегала его мать, у которой от злости тряслись губы. — Что про тебя подумают в доме?» Но Прохор только отмахивался. У детей, зачатых во время эпидемии неусидчивости, было всё быстрее: они говорили быстрее, чем думали, а делали быстрее, чем говорили и, когда подросли, брились двумя бритвами сразу, попеременно омывая их под струёй воды. Но Прохор, хоть и родившейся до эпидемии, опережал всех. Ел он так быстро, что заканчивал десерт, когда другие приступали к закуске, а во сне перекручивал простыню, так что от его движений рябило в глазах.
«Относитесь к человеку так, будто он должен через час умереть, − проповедовал о. Мануил.− И ваши сердца наполнятся состраданием».
«Если он уже покойник, чего с него взять? — не выдержал в заднем ряду Прохор, дергая за руку мать. — Разве успеть что-то получить?»
На него зашикали. Но Прохор только усмехнулся, видя, что вокруг давно относятся друг к другу, как учил о. Мануил, не тратя силы на бесполезное милосердие.
Ему было девять, ранней весной он гулял во дворе, задирал голову к верхушкам деревьев, считая на пальцах разорённые за зиму птичьи гнёзда, когда его клюнула ворона. Два дня он провалялся в постели, слушая оханье матери, уставившись на дверь, ведущую в чулан. А на третий перебил из рогатки всех ворон в округе. Они падали с деревьев, как яблоки, махали перебитыми крыльями, беспомощно раскрыв клюв, каркали на сбежавшихся из подворотен кошек. Прохор хотел было отогнать мелких хищниц, но тут его схватил за ухо сутулый бородач с длинными плоскими ногтями и потащил по улице, ругаясь на языке, который Прохор слышал только во сне. Он привёл его к угловому подъезду, толкая по крутой, засиженной слизняками лестнице, спустил в подвал, где на высоком стуле медлительный человек чинил сапог невиданных размеров. «Посмотри, что делает твой сын!» — крикнул бородач, бросив к ногам сапожника мёртвую ворону. Человек отставил сапог в сторону, взял ворону за сломанное крыло, а Прохора за руку. Потом, всё так же неторопливо, отвёл его в чулан, где сушился лук, и закрыл вместе с мёртвой птицей. Прохор прислушивался в темноте, густевшей от запаха лука. Он ждал, что дух вороны явится мстить, но слышал только гул крови в собственных жилах. А когда проснулся, дверь чулана была открыта, и мать, согнувшись над веником, выметала птичьи перья. «Всяка тварь ест другую», — понял в тот день Прохор, почесав затылок. И у него прорезался зуб мудрости. А когда спустя неделю после того, как его клюнула ворона, Прохор выздоровел, то понял, что всё его страшное приключение было кошмаром, однако, запустив в рот палец, нащупал зуб мудрости.
Прохор был трудным подростком, и с годами совсем отбился от рук, так что Саше Чирина пришлось его отселить. Помог в этом Нестор, выделив Прохору маленькую подсобку рядом с чуланом Савелия Тяхта, кладовку, где хранились испачканные в засохшей земле лопаты, грабли с прилипшими жёлтыми листьями, наколотыми на крючья, как билеты в осень, и тяжеленные, слегка согнутые от колки льда железные ломы. В новом жилище сына, больше похожем на тюремную камеру, Саша Чирина побывала только раз, когда выносила на улицу эти дворницкие принадлежности, разгребала по углам мусор, выбрасывая скопившееся по углам тряпьё, дырявые телогрейки и прохудившиеся сапоги. Окон в кладовке не было, и в неё не проникал дневной свет. «Зато и ночная тьма не проникнет, − перехватив испуганный взгляд Прохора, успокоила Саша Чирина, выходя за порог. — Электричество есть, а обои сам поклеишь». Нестор помог её сыну застелить земляной пол, набросав поверх грубо струганных досок драную, облезлую овчину, служившую первое время постелью, но в этой крохотной, похожей на гроб каморке ещё долго стоял запах сырой земли, который в сознании Прохора навсегда переплёлся с воздухом свободы. А вспомнив свой детский кошмар с чуланом, он понял, что сон был вещим, и с тех пор видел в Саше Чирина то сутулого бородача с длинными плоскими ногтями, то сапожника, топчущего его сапогом невиданных размеров. В школе Прохор никому не давал спуску — ни одноклассникам, ни тем, кто был старше, а когда его подвели к деревянной линейке, чтобы, стукнув ею по лбу, «уравнять», как когда-то Савелия Тяхта, потому что шутки в учебных заведениях обитают, как духи, привязываясь к стенам, переживая поколения выпускников, он сломал её об колено. На уроках Прохор вырезал на парте одному ему понятные письмена, а учителей не слушал, уверенный, что они не могут дать больше, чем дала ему природа, наделившая ясновидением. Расчёсываться по тени он научился быстро, а не звякать ложкой о зубы — с трудом. И с тех пор как младенцем в кроватке чуть не откусил Ираклию палец, давал советы.