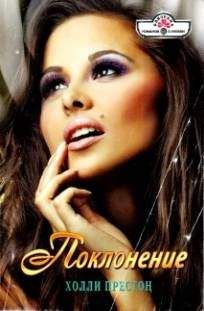Иван Зорин - Дом
− Узнавая ближе — держись подальше! − бросил он Нестору.
И тот понял, что от Прохора не укрылись ни его вездесущность, ни мизантропия. И как раньше к нему самому приглядывался Савелий Тяхт, теперь он стал присматриваться к Прохору, который тоже был зачат без любви, а значит, становился первым кандидатом на то, чтобы нести на себе проклятье быть пророком. Заметив его лукавство, Нестор про себя окрестил его Лукой, приглашая на обед, звал разделить одиночество.
− Пишешь? — кивнул раз Прохор на домовые книги, сваленные в углу. — И всё про белого бычка?
− Ты даже не открывал.
− А зачем? Все истории одинаковые: шёл сказ по дорожке, нёс лапти на верёвочке… К тому же у тебя сплошные анахронизмы, можно подумать, и времени нет.
− А разве есть? — окрысился Нестор, возбуждаясь гораздо сильнее, чем требовала перепалка с подростком. — Присмотрись, мёртвые продолжают жить, живые давно умерли. Мне вот Савелий Тяхт каждую ночь является, а ты заходишь раз в год, значит, он ближе?
Прохор пожал плечами.
− Бывает, человека понимаешь с опозданием, после его смерти, а, кажется, жил с ним душа в душу, и наоборот, бывает − рядом живёт, а не понимаешь вовсе, − гнул своё Нестор. − Когда годы пройдут, как разобрать, что вперёд было: курица или яйцо? У Бога-то вечность, а значит, ни причин, ни следствий.
− Ты что же, Бог?
Нестор пропустил мимо.
− Кажется, ты вчера родился, − уставился он на Прохора телячьими глазами. — А Ираклий Голубень тысячу лет как умер.
− Плохому хронисту и время мешает, − хмыкнул Прохор, уплетая обед с такой скоростью, что побил собственный рекорд.
Так Нестор понял, что Прохор тоже полон таинственных предчувствий, которые со временем превращаются в предсказания, а потом, когда сбываются, приносят мучительно сладостное облегчение и одновременно оставляют в душе горькое разочарование, потому что угадывать повороты судьбы, значит, пережить трагедию до того, как она случится, значит, нести чужую боль, как расплату. А когда Прохор ушёл, не попрощавшись, Нестор не обиделся, наоборот, с тех пор стал привлекать его к работе, разглядев родственную душу, дар пророчества, обрекавший на бездетность и одиночество.
Стратегическим планом Сары было разлучить сына с Молчаливой, увезти, если потребуется, за океан, а тактический расчёт сводился к тому, чтобы переговорить с предполагаемой невесткой с глазу на глаз. Кац прилетели в среду, а уже в четверг, выдавшийся ненастным и холодным, пока Авраам занимал Исаака разговорами о его месте в семье и сыновнем долге, Сара терзала в дворовой беседке Молчаливую, налетая на неё рассерженной орлицей, охранявшей гнездо. Но все её доводы разбивались о наивное простодушие.
− Я его люблю, − опустив глаза, твердила Молчаливая до тех пор, пока Сара не выдержала:
− На одной любви, милочка, жизнь не построишь!
− Любовь и есть жизнь, − упрямо возразила Молчаливая. — И Бог тоже.
− Узнаю сестру богослова! — вспылила Сара, поправляя седую прядь. — Кстати, твои братья тоже считают, что у вас мезальянс. Разве могут все вокруг ошибаться?
А Молчаливая опять увидела себя в инвалидной коляске, которую везут куда-то против её воли.
− Могут, − подняла она глаза. — Все всегда ошибаются.
Сара покрылась пятнами, но у неё был припрятан последний козырь.
− Да, девочка, ты права, − произнесла она хриплым, как голубиное воркование, голосом. — Это я вышла по расчёту. За вдовца. Исмаил у Авраама от первого брака. Думала, стерпится-слюбится…
− Как и ваша мать.
− Суламифь? Он рассказывал? Но поверь, ей легко на старости себя жалеть, у неё было не всё так просто. А могло быть и хуже…
− Что может быть хуже, чем жить без любви?
− Когда отбирают сына, которым жила. Умоляю, не отнимай Исаака, он тонкий, умный, с нами ему будет лучше… − Молчаливая вздрогнула. — Нет-нет, − почти закричала Сара, − ты неправильно поняла, ему надо мир повидать, не всю же жизнь квартиры сторожить. Отпустишь?
Молчаливая точно окаменела.
− Ну, хочешь, хочешь, я перед тобой на колени встану? Я − мать, когда-нибудь ты поймёшь меня, для Исаака я готова на всё…
− А я?
− Если на всё — отпусти!
Молчаливая ответила одними губами.
Она отказала Исааку в присутствии его родителей, застывших с натянутыми улыбками, невозмутимых, как мумии. А через час заперлась в комнате, чтобы, уткнувшись в подушку, выплакать слёзы на всю оставшуюся жизнь, чтобы глаза остались сухими, когда получит известие о пострадавшем в автомобильной катастрофе Исааке, которого везли в психиатрическую клинику и который скончается на операционном столе, такими же сухими, как и тогда, когда стояла у дерева над разбившимся Академиком. Она отказала себе в праве на любовь решительно и бесповоротно, а Исаак после её ухода снова заикался.
− Ма-амочка! — всхлипывая, уткнулся он в колени Сары, как больной пёс. — Отда-ай меня в психушку!
− Мы увезем тебя далеко-далеко, − приговаривала Сара, гладя его морщинистой ладонью. — За синее-синее море, за океан, где светит другое солнце…
Рядом неуклюже топтался Авраам, который едва слышно бормотал:
«Мы тебе там место подыскали…». А, поймав взгляд Сары, развёл руками.
− Па-апа, − застонал Исаак, − как можно жить с та-акими мыслями?
− Мысли, как блохи: вычешешь — ни одной не останется, − делал ему укол врач, укладывая в постель.
Так состоялось второе жертвоприношение Исаака. Сара выложила на стол билеты, точно рассчитала заранее сроки, и стала привычно собирать чемоданы. На другой день Кац улетели. А дом остался. И Молчаливая несла крест своего безумия по руинам всеобщего. Точно забыв слова, оказавшиеся лживыми посредниками её любви, она стала говорить на непонятном языке, который вокруг называли языком печали. В нём преобладали мягкие согласные, а из гласных «е», «ю» и «я», так что он напоминал одновременно кошачий мяв, безутешный детский плач и жалобное завывание ветра. Братья Молчаливой пробовали его учить, но это оказалось делом безнадёжным, потому что слова в нём каждый день означали разное − в зависимости от того, светило ли солнце, шёл ли дождь, цвели ли под окнами туберозы, слушали ли в беседке музыку влюблённые или снег колотил в железные двери. И только выражавшее «любовь» оставалось неизменным. Молчаливая говорила также морщинами на лбу, жестами, перечёркивая воздух ладонью, если ей что-то не нравилось, долгим или беглым взглядом, но ни одно слово из прежнего лексикона больше не слетело с её губ. При объяснении с Сарой Молчаливая не выложила своего главного козыря, утаив, что беременна. Безумие не помешало ей с помощью севшей верхом на живот толстой акушерки, подпрыгивающей в диком галопе, родить в положенный срок крупного мальчика, который, точно мертвец, выходил вперёд ногами, перевернувшись в последний момент, но родовой травмы не избежал, оставшись на всю жизнь хромым. Заткнув пальцами уши, она смотрела на зеленоватое, лягушачье тельце, всё в мокрых складках, на маленький, сморщенный рот, надрывавшийся от крика − на сына, кровное родство с которым оборвалось вместе с разрезанной пуповиной, смотрела равнодушными, кукушкиными глазами, бормоча на своём непонятном языке слова, среди которых не было «любви». Она забыла о ребёнке, едва его унесли заспанные няньки, и, чтобы избавиться от молока, отвернувшись, стала кормить грудью бумажную куклу, которую накануне свернула из салфетки. С тех пор Молчаливая тихо бродила по дому с набитыми пряжей карманами и с отсутствующим взглядом грызла передними зубами нить, измеряя годы клубками, блуждая в лабиринтах своего безумия. А в её квартире, закупоренной, как бутылка, куда она неизменно возвращалась, приникая, как к единственно надёжному оплоту памяти, время остановилось − в ней всегда стоял тот хмурый, пасмурный четверг, когда она отказала Исааку. Хромого ребёнка назвали Яковом, и после того, как от него отказались единственные родственники − дяди, его усыновила Саша Чирина. Случившееся подействовало на братьев Молчаливой. Но прямо противоположно. «Жить! Жить!» − жадно думал Архип, давно оставивший богословские штудии и пустившийся во все тяжкие. Теперь его часто видели в погребке сомнительной репутации, под который оборудовали полутёмный подвал, в обществе сестёр-близняшек, с которыми он расплачивался за услуги тем, что поил. Жмурясь, как кот, Архип слушал рыжего, усатого бармена с полотенцем через плечо и быстрыми волосатыми руками, продолжавшими орудовать с бутылками, пока он молол языком. Время всё разрушает, поворачивая вспять даже реки, и у соседей Изольды, молодожёнов, когда-то по ночам пугавших криками весь подъезд, произошёл разлад, сведя на нет и постель, и прожитые годы, и всю их семейную жизнь. Покинутый муж, в бесконечном унынии склонившись к стойке, заказывал уже третью бутылку, глядя на бармена остекленевшими глазами.