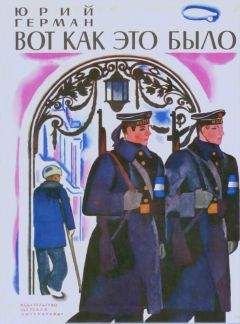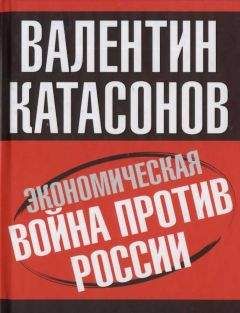Алексей Беляков - Пепел и песок
— Я не знал.
— Что ты стоишь, как завороженный? Проходи. Я пока снег с сапог отряхну. Папа привез сапоги из Германии, следит, чтобы были в чистоте, а я по снегу набегалась… Проходи.
И я вхожу. На тоненьких ножках, в мокрых носках.
Под эти своды ступают исполины, гиганты, циклопы. Поклонись им, ничтожный, скорее, их мраморным лестницам, блестящим перилам, тяжелым светильникам, могучей лепнине, выдающимся урнам, непобедимым колоннам, великому лифту, гениальному полу.
Я допущен сюда, ах, какой дивный вечер, и от счастья такого я обязать издать клич первобытный. Ощутить свое тело, развернуть свои плечи. Стать немножко титаном. Ну, бычок-песочник, давай! Пусть Москва отзовется величавым мраморным эхом.
— Эй! Я здесь! Ээээй!
— Что значит «Эй»? — отвечает злобное эхо. — Что значит «здесь»?
Вахтер с лубянской выправкой, в жилетке на собачьем меху, поднимается из-за грозного стола. Я не заметил вахтера, так он слился с величием момента.
— Ты куда пришел вообще, а? — вахтер тянется к отставной кобуре. — Ты знаешь, кто тут живет? Иди быстро отсюда, пока не накостылял. Шантрапа!
— Василий Иосифович, вы что? — вступает Хташа за кадром. — Это ко мне.
Вахтер приветливо хрюкает и отдает Хташе честь недрожащей рукой:
— К тебе? Тогда понятно. Только что ж он вопит тут?
— А вам жалко, что ли?
53
Потом захватывающее действие перемещается в лифт, где дверь с гремучим гербом и большие матовые кнопки, каждая, как ночник. Гул вышколенного мотора. Я вижу маленькое лицо испуганного жучка: мое отражение в зеркале. В глубине отражения, в потерянном фокусе, магически улыбается Хташа, светятся зубы.
— Ты суп будешь?
— Суп?
— Да, у нас Роза делает прекрасные супы.
— Роза?
— Домработница. Которую я хотела прислать прибраться у вас в комнате. Будешь суп?
— Я?
— Ты!
— Наверно… А вы сами не готовите?
— Мы? — Хташа отряхивает воротник дубленки, в мое горячее лицо летят брызги. — Роза, кажется, харчо сделала.
— А сыр у вас есть?
54
Баста! — как говорят в моей Италии.
Я отворачиваюсь от позорных флешбэков и разглядываю здание Университета — чертог, где до сих пор живет Хташа. Мымра. Нет, нельзя так ее называть, Катуар будет сердиться. Катуар! Я вздрагиваю, озираюсь. Секретер, бюро, тахта с Лягарпом. На стуле с зеленой атласной обивкой кучка маленьких звезд из фольги, их вырезала Катуар. Где она? Где моя Птица? Уже поздно. Не долетит в темноте.
Из прихожей доносится осторожный поворот сюжета — ключ в замке.
— Катуар! — Я поскальзываюсь на коричневой плитке в прихожей, и падая, цепляюсь за канделябр. Будь проклят Брюлович со своим дизайном!
— Господи, да что с тобой! — Роза входит и помогает мне подняться. — Подсвечник уронил. Он же антикварный. А я иду мимо, смотрю — свет горит, и решила зайти, проведать. Как дела?
— Хиштербе.
— Что? Опять что-то свое говоришь, непонятное. Адочка тебе привет передает, очень скучает.
— Роза, — я кидаю в угол канделябр с его героическим прошлым. На светлой плитке проступает трещина, сочится кровь. — Что ты пришла? Я не тебя ждал.
— Ой, какой-то ты чумной с годами стал. Злой. Раньше ведь не такой был.
55
Падаю снова, теперь во времени, возвращаюсь в постылый сюжет — за тринадцать лет до прихожей и канделябра. В профессорский корпус.
Роза, которую сегодня вижу впервые, ставит передо мной тарелку с ярким супом.
— Кушайте, пожалуйста!
Хташа, сидящая напротив, морщит упитанный нос:
— Роза! Я же говорила тебе столько раз — не кушать, а есть.
— Ой, ну он такой голодный-несчастный, хочется с ним поласковей. — Приставляет к тарелке антикварную ложку с ажурным черенком. — А я пойду, не буду мешать. Надо фарфор протереть, ковры пропылесосить, что еще? Ах, да! Еще в магазин сходить.
— Сыр купи! — повелевает Хташа.
— А какого?
— Разного.
Я алчно зачерпываю ложкой пестрое озеро. И, глядя сквозь пар, вспоминаю, что последний раз ел суп в Таганроге, когда бабушка сделала прощальный обед. Я с ней очень давно не говорил.
— Хташа, а можно от вас позвонить по межгороду? Япотом отдам деньги.
— Звони сколько хочешь. Не надо никаких денег. Папа столько тратит на международные звонки, что от твоего мы никак не разоримся. Ешь, не волнуйся!
Я бережно подношу ложку к лицу, сам себя причащая. Сейчас я стану блаженным. Не дрожи, рука, не дрожи. Не скули, левая нога. Что с тобой, глупая? Тебя вдохновляет эта квартира? Ты хочешь гулять по этим чертогам, топтать бескрайние ковры, лежать на чудо-диванах? Да, храпы и скрипы Буха опротивели. Как и сам он, зануда с мячом. Еще один курс, а потом? Таганрог, вонь мутных азовских вод, непобедимые блины, Перун и Ярило под окнами, и Вечность. Мой переулок. Как страшно жить!
— А ты не бойся!
В кухонные врата ступает высокий человек, командор в алом шелковом халате. Он держит трубку и ведет разговор, не замечая нас:
— Не бойся! Пиши еще главу, приходи ко мне, я посмотрю, дам советы. Когда? Давай завтра вечером. Жена с дочкой пойдут в театр, нам никто не будет мешать. Все, договорились. Целу… — он наконец различает за круглым столом меня и Хташу. — Эээ, до свидания. Ауфвидерзейн.
Кладет трубку на стол, опирается на него (стол ахает). Смотрит на меня взглядом палача. Я застываю с ложкой, харчо дрожит в руке. Плеснуть бы этим харчо в лицо командора, чтоб завыл, чтоб по полу катался. А потом взять бы саблю (я видел в гостиной ее, на стене), порубать на куски всю эту квартиру и кричать сладострастно: «Врешь, не возьмешь! Я за сыр не продамся!»
— Папа! — улыбается Хташа. — Это мой однокурсник. Он…
— А мы прекрасно знакомы! — перебивает ее профессор Бурново.
Ложка не выдерживает и падает в обморок, одарив мои колени пылким харчо.
Как славно скользит сюжет, будто все это уже было. Да, Бенки, нужны и такие ходы, дерзкие и простые. С виду комедия, а присмотришься — драма. Или наоборот? Надо героя помучить, пусть потеряется в жанре, несчастный, и пусть знает, что автор безжалостен. Пусть сражается сам, голыми ручками, ажурной ложкой. Нет, ребята, пулемет я вам не дам.
56
Через тридцать восемь минут я, наряженный, как Петрушка, в широкие спортивные шаровары Бурново, вдыхаю ароматы сыров, что Роза преподнесла на обильном блюде. Потею, не смею дотронуться. Бурново сидит напротив нас с Хташей, наливает в искристую рюмку водку из морозной бутылки.
— Папа, ты уже третью пьешь! — Хташа скорбит. — Утебя сердце!
— Сердцу водка только помогает! — Он выпивает, сладко чавкает и ставит на стол рюмку с праздничным стуком. — Так что же, молодой человек, вы все же намерены взяться за ум?
Хташа мягким тапком наступает на мою левую ногу, передает под столом мольбу: соглашайся, и будешь тут счастлив.
— Вы знаете, профессор, мне так нравится ваша огромная квартира, ваши сыры, ваша сабля в прихожей, ваши гипсовые бюсты на книжных полках, ваша стиральная машина, которая сейчас облизывает пеной мои штанишки, ваша пышная Роза и все другие цветы, что я возьмусь за ум, возьмусь за жалкие сиськи вашей дочери, лишь бы не возвращаться отсюда к Буху и его Брунгильде.
Нет, Бенки, шучу. Я отвечаю иначе:
— Я очень люблю историю, просто не успел к экзамену подготовиться. Ко мне приехала бабушка, и я показывал ей Москву.
Тапок Хташи хихикает. Я закручиваю трепетным пальцем волосы на затылке.
— Хорошо, молодой человек, бабушка — это, конечно, причина. Экзамен вы пересдадите. Только что же вы так тогда раскричались?
Хташа ловко опережает мой мучительный ответ:
— Он очень извиняется. Он просто очень нервничал.
— Нервничал? Но кричать-то зачем? У меня такой случай впервые. Но раз дочь говорит… А думали ли вы уже над темой будущего диплома?
Надо мгновенно увернуться от удара, враг занес над головой саблю.
— Да, конечно. Я бы хотел написать о Федоре Кузьмиче.
— О старце? Неожиданно. А почему о нем? Фигура весьма спорная.
Говори, Бурново, говори. Ты сам себе ритор. А я пока буду нежиться в твоем баритоне, украдкой есть сыр, ублажать свою левую ногу.
— Фигура очень спорная, — Бурново поднимается, сдвигая вековой стол. — Собственно, откуда весь этот ажиотаж взялся? От вечной иррациональной русской любви к царям-страдальцам. То Иоанн Антонович, младенцем скинутый с престола Елизаветой, то Петр Третий, свергнутый муж Екатерины — не побоюсь этого слова — Великой… Смерть Александра Первого казалась загадочной для многих. Действительно, странно: в сорок восемь лет, будучи крепким и любвеобильным мужчиной, внезапно умереть от горячки. Когда гроб доставили в Петербург, мать Александра, по некоторым свидетельствам, взглянув на покойного, воскликнула: «Это не он!». И тут, спустя двенадцать лет после похорон, возникает этот загадочный сибирский старец. Да, высокий, да, в чем-то схож с покойным императором, но что еще? Ничего! Только народное желание увидеть царя, сбежавшего с престола и замаливавшего остаток жизни грех отцеубийства. Конечно, сам сын своего папу Павла Первого не душил, но молча заговор благословил, чем всю жизнь потом действительно терзался. Федор Кузьмич был очень набожен, после смерти на его коленях обнаружили мозоли от частого стояния в молитве. Это уже повод заподозрить в нем царя? Вялый аргумент, согласитесь. Обращался к приходившим он на украинский манер — «панок». Неожиданно для того, кто на Венском балу покорял сердца главных красавиц Европы, не так ли? По одной из версий, бывший царь после бегства из Таганрога скрывался несколько лет в Киево-Печерской лавре, там, конечно, он мог допустить в свою речь украинизмы… Однако, что выдумывать версии, как возникло слово «панок» в лексиконе тихого богобоязненного дедушки? Достаточно обратиться к источникам. Медики, которые находились возле Александра в его последнем вояже, тщательно вели дневники; Императрица писала письма в Петербург, где подробно излагала все события в доме таганрогского градоначальника; Петр Волконский, Дибич, да еще куча придворных — все фиксировали происходящее, и каждый описывал угасание, агонию, смерть. Все сговорились? Загримировали под царя умершего за несколько дней до этого солдата? — А по многим версиям, «царского происхождения» старца именно случайный солдат был главным претендентом на должность трупа в царском гробу! Предположим. Аслуги? Верные камердинер и кучер? Их, простолюдинов, тоже вовлекли в заговор? И так запугали, что они даже на смертном одре не признались. А Александр жил себе в Сибири да молился. Гарун аль Рашид какой-то, а не повелитель одной шестой части суши, победитель Наполеона! Этот миф очаровал даже Льва Толстого, и он начал уже в 60-е годы писать что-то вроде автобиографии старца, где в начале есть слова: «Бегство мое совершилось так…» К счастью, вещь осталась неоконченной, иначе гений Толстого окончательно убедил бы всех: царь скрывался под именем старца Федора Кузьмича и умер в Сибири в 1864 году. А последний аргумент в пользу Александра-беглеца возник в 1921 году. Якобы при вскрытии большевиками царских гробниц Александра на месте не оказалось. То есть после пышных похорон тело ненужного уже солдата выбросили из венценосной усыпальницы. Но тут нет никаких прямых свидетельств! Рассказы о пустой гробнице появились в эмигрантской печати: пишущий слышал от того, кому рассказывал некто, кто узнал от имярека, что будто бы… Слишком сложная цепочка, слух по мотивам. — Бурново наливает водки полную рюмку, пересохло в гробу. — Так что крепко подумайте, молодой человек, стоит ли браться за этого сомнительного персонажа. — Выпивает, зажмурившись. — Ух! И хватит о нем. А кем вы вообще намерены стать в этой жизни?