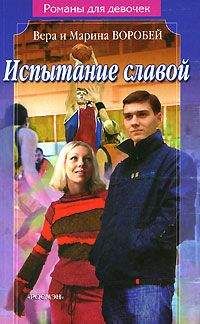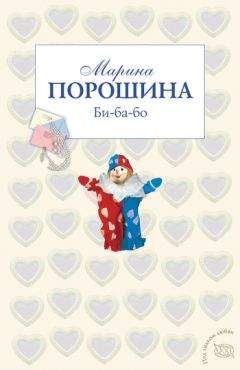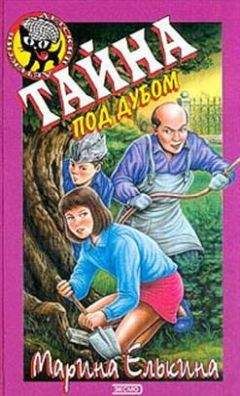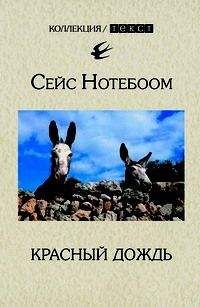Сейс Нотебоом - Следующая история
Он продолжал говорить, но я, оказалось, еще и великий мастер в преодолении силы тяжести, потому что далеко внизу подо мною плыл корабль, утлая лодчонка на большой воде. Позади себя он оставлял одинарное V, клин, что становился шире. Страница с одной лишь буквой, и на протяжении всего этого плавания она хотела рассказать мне о чем-то. Но о чем? Далекие берега виделись мне парой раскрытых для объятия рук, которые, быть может, сомкнутся вокруг корабля, чтобы никогда больше не выпустить нас, я увидел себя самого, увидел стесненное созвездие своих спутников, три пары близнецов, один сам по себе, видел, как женщина отделилась от мальчика и двигалась по собственной своей орбите, удаляясь от остальных и в то же время вовлекая их в эту орбиту, ведя их за собой, видел, как, словно повинуясь непреложному закону природы, оба старика танцующим шагом шли с нею, как капитан последовал за ними, опустив бинокль, как Харрис отошел от меня, как, разлученный со мной, я там, внизу, нерешительно, колеблясь, прибился к шествию, в то время как здесь, наверху, я воздушным шаром поднимался все выше и видел, как реки становится все меньше, а суши — все больше, зеленой, опасной, потеющей земли, закутанной в испарения собственного жара, к которым примешивался теперь сумрак внезапно обрушившегося тропического вечера. Я видел огоньки Белена, как «Вояджер» видел Землю среди других светящихся точек и пятнышек нашей солнечной системы. Теперь я поднялся выше, чем когда-либо возносился в своем воображении Сократ, который верил еще, что если взлететь достаточно высоко над Землей, то сможешь заглянуть в рай. Я оказался выше, чем некогда Армстронг, осквернивший Луну, нужно было спасаться от этой звездной стужи, возвращаться на свое место, назад, в неповторимое мое тело. Я вошел в салон последним. Алонсо Карнеро сидел у ног женщины. Что-то в расположении всей мизансцены обнаруживало, что ему предстоит стать центром внимания. Оба старика смотрели на него с благоволением, это слово было здесь уместно. Все наши тела, казалось, пребывали в глубоких сомнениях, в беспрестанной неуверенности, действительно ли им хочется существовать, нечасто приходилось мне видеть компанию людей, у которых отсутствовало столь многое — временами исчезали колени, плечи, пропадали ступни, но заполнять эти пустоты не составляло никакого труда для наших глаз, лишь когда становилось совсем невмоготу, они перебирались в глаза других, укрываясь там, словно тем самым, как заклинанием, могли предотвратить абсолютное исчезновение. Она одна оставалась самой собою, мальчик взглянул на нее и заговорил, не отводя от нее глаз. Наверное, она дала ему тот или иной знак, что нужно начинать.
Начинать? Не годится, не то слово, а ведь теперь самое важное — выбирать подходящие слова, и ты знаешь это лучше меня. Он не начинал, он заканчивал. Как назвать такое? У его истории было начало и был конец, и в то же время она стала завершением какой-то другой истории, фрагменты которой мы большей частью уже знали: о его бабушке, фашисты расстреляли ее в Бургосе вместе с другими женщинами из их деревни, а дед лучшего его друга был в том взводе карателей, и все в деревне знали об этом, как и о том, что в последние секунды жизни, стоя перед целящимися солдатами, женщины задрали юбки — смертельное оскорбление стреляющим; и как родители после этого запретили ему водиться со своим другом, потому что такое не забывается навеки, во всяком случае — в тех местах, откуда он родом, так что они с другом, его звали Маноло, виделись лишь тайком, когда темнело, как и в тот самый вечер, о котором нужно было рассказать, о котором он рассказывал, словно читал нескончаемую литанию, нараспев, бескрайним потоком слов, — как они с Маноло все время старались перещеголять друг друга в храбрости, заходя при этом все дальше, и частенько даже ложились на рельсы перед тем, как должен был проходить ночной экспресс Бургос — Мадрид, чтобы испытать, кто смелее, кто пролежит дольше. В салоне было очень тихо, мы все увидели, как он поднялся и стал похож на Иисуса во храме, мы знали, что должно было произойти, и не хотели это услышать, глядя друг на друга, ибо смотреть на него было свыше наших сил. Он же не обращал больше внимания на нас, не отрывая взгляда от нее, и тут я увидел то, что видел потом и в следующих историях: рассказчик подмечал в ней нечто такое, что исполняло его безграничным доверием, что казалось бесконечно близким, словно она была не самой собою, но кем-то давно ему знакомым, так что каждый рассказывал свою историю не этой чужой женщине, но кому-то иному, кого видел лишь он один. Так что, собственно говоря, мы никого не видели, и лишь один рассказчик — именно того, кто делал для него возможным находить слова, которые ближе всего подходили бы к внутренней реальности его истории. Я слышал, как стихал шум идущего судна, как снаружи нас окружала уже не ширь ночной реки, а одна только земля, сухая равнина. И вот они улеглись, и он увидел Большую Медведицу, в которую прежде стрелял из рогатки, и подумал, что сейчас Медведица глядит на него и ей все будет видно. Поначалу они еще переговаривались, каждый уверял другого, что нипочем не поднимется, не уйдет первым, но теперь он был твердо уверен, что говорит правду, он знал это, а потом стало тихо, лишь едва слышно шуршала засохшая трава, да иногда доносился шум проезжавшей машины, вот и все. И тогда, совсем издалека, долетел звук, похожий почти на пение, исходивший из твердых чугунных рельсов, пронизывающий череп, — он еще и сейчас ощущал тот звук. Из глаз его полились слезы, он стыдился их, и в то же время им владело восхитительное чувство, ведь теперь все происходило так, как и должно было произойти, жуткое, неумолимо нарастающее зудение, безмолвие, в котором оно приближалось, звезды над плоскогорьем, слезы, в которых они расплывались во влажные, трепещущие пятнышки света. Мы сидели неподвижно, помню, что не осмеливался больше поднять на него глаза, потому что зудение в его голосе переросло в оглушающий грохот, все слилось в один этот звук, стало им, никто не смог бы такого себе представить, и, говоря, он зажимал себе ладонями уши, и, перекрывая неистовую, всепожирающую бурю этого звука, раздавался его бесконечно тихий голос, и он рассказывал, что увидел еще, как Маноло успел отскочить раньше, чем огромная тяжелая черная тень накрыла его, Алонсо, и, широко раскинув руки, словно желая показать, как ты раздираешь надвое тело, он стоял посреди салона, озираясь вокруг, не видя никого из нас, а мы, мы не шевелясь смотрели, как она поднялась и с жестом бесконечной нежности увела его прочь.
Мы посидели еще немного и потом вышли на палубу. Все молчали. Я стоял у левого борта, вглядываясь туда, где находился южный берег, откуда слышались далекие звуки. Ничего нельзя было различить, кроме отблеска наших огней на атласной глади воды. Так вот, значит. Мир будет продолжать инсценировать свои мнимые образы, представая перед нами в различных фазах — день, ночь, — будто желая напомнить нам о чем-то, а мы, уже где-то совсем в другом месте, станем смотреть на это представление. Мне была знакома невидимая теперь земля, я знал, что происходило на дальних тех берегах. Нам предстояло плыть через теснину у Обидуса, по лабиринту желтой илистой воды, прямо под деревьями больших джунглей, близ Фуро Гранде ветви станут задевать наше судно, я знал это, я уже был здесь однажды. Конечно был. Голые индейские дети на дощатых мостиках, в воде хижины на сваях, выдолбленные стволы деревьев с гребцами — ожившими иероглифами, визг и гомон громадных обезьяньих полчищ, засевших в башнях-деревьях, когда опустился вечер. Снова — еще один вечер. Порою электрическая буря — письменами на черноте неба, яростные сполохи слов, сгорающих тут же, не успеваешь прочесть. А потом, когда мы проплыли, миновали это, — горы, будто немыслимые столы, Сантарен, на полпути — Манаус со своим идиотским зданием оперы; Тапажос, зелень воды, смешанная с позолотой ила, — и другая, намного более яркая зелень и багрянец и желтизна пронзительно верещащих попугаев, бабочки, порхающие многокрасочными платками, а по вечерам — бархатные мотыльки размером с ладонь, что бьются и обжигаются о палубные огни. Так оно и должно было продолжаться, бремя, тяжесть и мы, странники, в лимбе, чистилище, преддверии. Каждый вечер, если это могло называться так, каждому из нас приходилось рассказывать свою историю, что была мне известна — и неизвестна, и каждой из тех историй надлежало стать завершением другой, долгой. Единственно, казалось, что остальные гораздо лучше меня знали, что нужно рассказывать. Хорошо, теперь и я это знаю, но тогда — еще не имел никакого представления. Рассказчик с незаконченной историей — плохой рассказчик, ты же знаешь. Страха никто не испытывал, насколько я мог судить. Это уже прошло. Сам же я ощущал какой-то восторг, которого объяснить не мог.
Река сужалась, но все еще была широка, как озеро. У Манауса мы пересекли линию, разделяющую Амазонку и Риу-Негру, черная вода рядом с коричневой посреди реки, два цвета, что там не смешиваются: черная вода смерти, твердая поверхность полированного оникса, коричневая — дубленая и вязкая, ведущая свой рассказ о далях, о девственном лесе. Когда настанет моя очередь, я не знал, пока же — мог слушать и смотреть на других, читая повесть их жизни, словно кто-то придумал ее для меня. Священник слушал рассказ Харриса с таким видом, будто снова оказался в исповедальне, а Харрису вообще не довелось услышать историю патера Ферми, потому что к тому времени он уже исчез. Он был вторым, и мы слушали его, как должны были выслушать всех, это была церемония прощания, торжество случайности, прикрепившей наши жизни к некоему времени, и некоему месту, и некоему имени. И мы были деликатны, мы сами немножко умирали друг с другом, помогали друг другу растянуть ту последнюю секунду — до конца каждой истории, а нам еще нужно было размышлять, и казалось, что на это отведено времени больше, чем мы могли исчерпать. Харриса пырнули ножом в каком-то баре в Гайане, и за те нескончаемые секунды, пока серебристое, поблескивающее лезвие вонзалось в него, ему хватило времени, чтобы сесть в Лисабоне на корабль, совершить это плавание вместе с нами, но все никак не кончался тот смертоносный удар. Что-то там было такое с негритянкой в загаженном борделе где-то в пригороде Джорджтауна, и отсюда, за тысячи километров, он наблюдал, как приближается нож, стиснутый в ревнивой руке, всю свою жизнь он мог бы уместить на том лезвии, и ему бросилось в глаза, насколько логично она прошла и прекратилась, он выбрал именно это слово. Тринадцать минут, разумеется капитан Декобра помнил точно, минули с того момента, как вышел из строя первый из его четырех моторов, до того мига, когда он коснулся морской поверхности. Sound of impact.[59] Он рассказывал об облаке на совершенно чистом небе, которое — солнце было у него за спиной — походило на огромного серебристого человека, они подлетали ближе, и тот разрастался, вытягивался, занимая собою все небо. Тогда он думал не о сотне паломников, возвращающихся чартерным рейсом из Мекки, а о своей жене в Париже и о подружке в Джакарте, и даже, собственно, не столько о них, сколько о двух пустяковых свертках, лежащих где-то на свете, там, внизу, в двух разных холодильниках. Все то, что должно было произойти, продолжало тем временем развиваться, радар в который раз не сработал, и он не сразу понял, что перед ним облако вулканического пепла, выброшенного при извержении Кракатау, он слышал, как один за другим замирают под ним его моторы, температура упала с трехсот пятидесяти до почти ничего, не происходило больше сгорания, что, конечно же, испугало его, он попробовал аварийным зажиганием вновь завести моторы, однако безрезультатно, никакой тяги, и вдруг все стало как во время его первого полета на планере — как давно это было, — вот только теперь под ним самый большой планер из всех когда-либо существовавших, в адском свисте они неслись по воздуху, сзади раздавались вопли, он слышал их, пытаясь перейти на запасные аккумуляторы, включив радиомаяк — сигнал бедствия, и вдруг среди лихорадочной спешки на него снизошло неземное спокойствие, прошел, наверное, целый год, рассказывал капитан, за это время он успел бы написать книгу своих воспоминаний — война, воздушные сражения, бомбардировочные вылеты, те две женщины в его жизни, для них он перед каждым своим отлетом готовил особенный обед и ставил в морозильник, чтобы они вспомнили о нем, пока он находился на другом конце света, пускай это могло показаться смешным ребячеством, но оно всегда втайне радовало его, так же как и сейчас приятно было думать, что потом, когда он уже прекратит быть, те две женщины, которые ничего не знали друг о друге, примутся за обед, приготовленный еще им, к тому времени не существующим больше в мире, и разве нам не кажется это забавным, и, разумеется, нам это показалось забавным, и мы смотрели в его жесткие, как сталь, голубые глаза, и он тоже ушел, прямой, пружинистый, не боявшийся ничего человек, поднимавший в воздух самый большой в мире самолет с такой легкостью, словно тот был сложен из листка бумаги, он доверчиво взял твою протянутую ему руку, я видел, как вы исчезали за стеклянными дверьми салона.