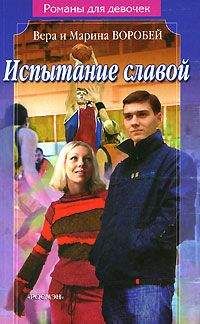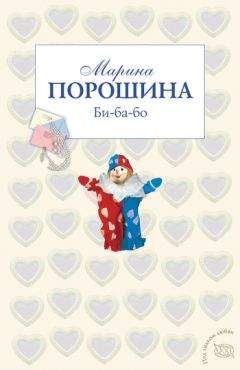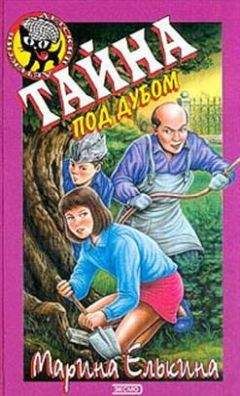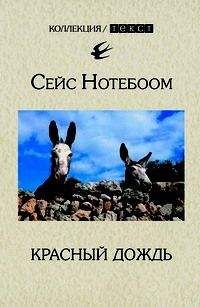Сейс Нотебоом - Следующая история
Река сужалась, но все еще была широка, как озеро. У Манауса мы пересекли линию, разделяющую Амазонку и Риу-Негру, черная вода рядом с коричневой посреди реки, два цвета, что там не смешиваются: черная вода смерти, твердая поверхность полированного оникса, коричневая — дубленая и вязкая, ведущая свой рассказ о далях, о девственном лесе. Когда настанет моя очередь, я не знал, пока же — мог слушать и смотреть на других, читая повесть их жизни, словно кто-то придумал ее для меня. Священник слушал рассказ Харриса с таким видом, будто снова оказался в исповедальне, а Харрису вообще не довелось услышать историю патера Ферми, потому что к тому времени он уже исчез. Он был вторым, и мы слушали его, как должны были выслушать всех, это была церемония прощания, торжество случайности, прикрепившей наши жизни к некоему времени, и некоему месту, и некоему имени. И мы были деликатны, мы сами немножко умирали друг с другом, помогали друг другу растянуть ту последнюю секунду — до конца каждой истории, а нам еще нужно было размышлять, и казалось, что на это отведено времени больше, чем мы могли исчерпать. Харриса пырнули ножом в каком-то баре в Гайане, и за те нескончаемые секунды, пока серебристое, поблескивающее лезвие вонзалось в него, ему хватило времени, чтобы сесть в Лисабоне на корабль, совершить это плавание вместе с нами, но все никак не кончался тот смертоносный удар. Что-то там было такое с негритянкой в загаженном борделе где-то в пригороде Джорджтауна, и отсюда, за тысячи километров, он наблюдал, как приближается нож, стиснутый в ревнивой руке, всю свою жизнь он мог бы уместить на том лезвии, и ему бросилось в глаза, насколько логично она прошла и прекратилась, он выбрал именно это слово. Тринадцать минут, разумеется капитан Декобра помнил точно, минули с того момента, как вышел из строя первый из его четырех моторов, до того мига, когда он коснулся морской поверхности. Sound of impact.[59] Он рассказывал об облаке на совершенно чистом небе, которое — солнце было у него за спиной — походило на огромного серебристого человека, они подлетали ближе, и тот разрастался, вытягивался, занимая собою все небо. Тогда он думал не о сотне паломников, возвращающихся чартерным рейсом из Мекки, а о своей жене в Париже и о подружке в Джакарте, и даже, собственно, не столько о них, сколько о двух пустяковых свертках, лежащих где-то на свете, там, внизу, в двух разных холодильниках. Все то, что должно было произойти, продолжало тем временем развиваться, радар в который раз не сработал, и он не сразу понял, что перед ним облако вулканического пепла, выброшенного при извержении Кракатау, он слышал, как один за другим замирают под ним его моторы, температура упала с трехсот пятидесяти до почти ничего, не происходило больше сгорания, что, конечно же, испугало его, он попробовал аварийным зажиганием вновь завести моторы, однако безрезультатно, никакой тяги, и вдруг все стало как во время его первого полета на планере — как давно это было, — вот только теперь под ним самый большой планер из всех когда-либо существовавших, в адском свисте они неслись по воздуху, сзади раздавались вопли, он слышал их, пытаясь перейти на запасные аккумуляторы, включив радиомаяк — сигнал бедствия, и вдруг среди лихорадочной спешки на него снизошло неземное спокойствие, прошел, наверное, целый год, рассказывал капитан, за это время он успел бы написать книгу своих воспоминаний — война, воздушные сражения, бомбардировочные вылеты, те две женщины в его жизни, для них он перед каждым своим отлетом готовил особенный обед и ставил в морозильник, чтобы они вспомнили о нем, пока он находился на другом конце света, пускай это могло показаться смешным ребячеством, но оно всегда втайне радовало его, так же как и сейчас приятно было думать, что потом, когда он уже прекратит быть, те две женщины, которые ничего не знали друг о друге, примутся за обед, приготовленный еще им, к тому времени не существующим больше в мире, и разве нам не кажется это забавным, и, разумеется, нам это показалось забавным, и мы смотрели в его жесткие, как сталь, голубые глаза, и он тоже ушел, прямой, пружинистый, не боявшийся ничего человек, поднимавший в воздух самый большой в мире самолет с такой легкостью, словно тот был сложен из листка бумаги, он доверчиво взял твою протянутую ему руку, я видел, как вы исчезали за стеклянными дверьми салона.
Этой ночью в последний раз мне приснился я сам в своей постели в Амстердаме, но я уже начинал себе — человек в той постели уже начинал мне — надоедать. Эти капли пота у него на лбу, это перекошенное лицо, гримаса, словно он там претерпевает невыносимые муки — а ведь я в полной безмятежности плыл к верховьям Амазонки; этот будильник подле моей кровати, время которого казалось приклеенным к нему намертво, а меж тем у меня успело произойти такое множество событий. Я пришел к выводу, что никакого дела мне до него нет, тамошнее страдание никоим образом не относилось к тому ощущению апофеоза, которое переполняло меня здесь. Теперь нас оставалось всего лишь трое, для человека, выучившего у классических авторов, что повествование должно иметь начало и конец, ситуация складывалась мрачная. Я не мог разбиться в авиакатастрофе, никто никогда не пытался меня зарезать, единственный раз я столкнулся с насилием, когда со мной попытался расправиться Аренд Херфст, но он даже и этого не сумел сделать как следует.
Патер Ферми подобных трудностей не испытывал. Он беззаботно рассказывал о том мгновенье экстаза, когда от своего настоятеля он получил благословение совершить паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Тогда ему было видение: перед глазами его возникла колонна на паперти собора, которой в течение столетий, завершив свой путь, длившийся зачастую многие месяцы, касались рукою паломники, так что в этом месте на полированном мраморе, вытертом столькими прикосновениями, появилось углубление, словно негативный отпечаток ладони. Картина получилась впечатляющая, нельзя не признать, гораздо сильнее, чем у меня в «Путеводителе по западной и северной Испании» д-ра Страбона. Я лишь вскользь упомянул о той колонне, не более, а ему удалось развернуть вокруг нее целое театральное действо: как возможно такое, чтобы на руке, которой дотрагиваешься до мрамора, оставалась мельчайшая его частица, микроскопическая, невидимая; и как все эти руки за все эти века беспрестанно повторяющимся движением изваяли в камне ту руку, которой именно в то мгновение там и не было. Сколько же потребовалось бы времени, случись таким заняться в одиночку? Как раз веков двадцать, не меньше! Я знал, о чем он ведет речь, ведь и я — один из тех ваятелей, и я тоже вложил свою ладонь в тот негатив ладони. Чего никогда не суждено было проделать патеру Ферми, потому что, приблизившись наконец после трехмесячного перехода из Милана к Сантьяго, он поступил так, как надлежит поступить каждому (предписано д-ром Страбоном), — взобрался на возвышающийся перед городом холм, чтобы увидеть в отдалении силуэт собора, упал на колени и молился, а потом в экстазе (это он произнес смущенно) бросился вниз по склону холма и, когда, уже внизу, перебегал дорогу, намереваясь продолжить путь «по правильной стороне», был сбит машиной «скорой помощи». Тем же самым танцующим шагом, которым он — у нас на глазах — прошел весь свой путь пилигрима, старик поспешил вдогонку самому себе под сминающую тяжесть санитарной машины, взмахивая руками, словно его нагоняла какая-то очень большая птица или, как знать, — повергающий в ужас ангел, такие тоже бывают. Профессор Денг вскочил, чтобы удержать его, но он этого даже не заметил, он видел одну лишь тебя. Какие картины ты наворожила ему? Ни один из нас так и не узнает никогда, что же видел другой, рассказывая тебе свою историю, но в каком бы облике ты ни предстала, узнаваема или нет, долгожданна или неожиданна, это, должно быть, связано с неким осуществлением, с исполнением чего-то. Интересно будет узнать.
Теперь остался один лишь Денг, подошла его очередь рассказывать. Кажется, корабль едва крадется вперед, он больше никуда не хочет плыть. Я знаю, что вокруг нас ночные джунгли, когда проплываем мимо какого-нибудь селения, чувствую запах вяленой рыбы и гниющих фруктов. Иногда над водою разносятся детские голоса, порою пройдет шлюпка с индейцами, и еще долго потом слышится всхлипывание ее дизельного мотора. Коари, Фефе, у мира есть еще названья.
Вы уже там, когда я захожу. Потом мне придется свою историю рассказывать тебе в одиночестве. На лице твоем — всегдашняя маска Персефоны (патер Ферми: «Вам как человеку классического образования полагается знать, что смерть — женщина»), но профессору Денгу видится что-то другое, возможно, нечто, вызывающее представление о поэте, с которым он провел целую жизнь, как я — с Овидием; и вдруг в звуках его старческого голоса нам слышатся глумливые вопли толпы, что освистывает его, собственные его студенты в дни «культурной революции» выставили профессора на помосте, оплевывали и избивали за то, что он предал революцию, скатившись к вырожденчеству, к упадочническим лозунгам эксплуататорского класса феодалов, превозносил касту, угнетавшую народ, пресмыкаясь перед проявлениями суеверия, занимаясь ничтожными индивидуалистическими переживаниями людей той эпохи, что достойна лишь презрения. Ему еще повезло, он тогда остался в живых и был сослан в глухую провинцию, где прозябал, забытый всеми, пока не начались новые перемены, но что-то в нем уже надломилось, как и Цюй Юань, он тоже чувствовал себя пленником недужного, порочного времени, жить в котором не хотел, и, увидев, что колесо перемен сделало еще оборот, отвратился от этого мира и ушел. Он процитировал из своего поэта: «Утром я был оклеветан и уже в тот же вечер остался не у дел». С тем стихотворением — единственным своим багажом — он отправился в путь и, дойдя до реки, оставил там свою жизнь, словно вещь на берегу. Тяжесть воды проникла в его одежду, его подхватило, словно челнок, и понесло течением, он ждал, когда поднимется ветер, чтобы начать свое великое плавание. Он слышал, как вокруг поет вода разными голосами, высокими и нежными. Рука его потянулась к тебе, его почти совсем уже не стало видно, будто был он сделан из древней, тончайшей материи, и ты потянулась к нему тем же движением, уже поднявшись. В далеком зеркале салона я видел себя сидящим в одиночестве и думал о том человеке в Амстердаме, о фотографии, что он держал в руке, о сне, что ему снился, в котором я сидел и думал о нем. Мимо того Сократа я пошел на палубу, взглянув на незрячие глаза под грубыми клочковатыми бровями, на мыслящую голову неандертальца, которая в Амстердаме думала обо мне. Корабль не оставлял позади себя уже почти никакого следа, вода была так тиха и черна, что на поверхности ее, как в зеркале, я видел отражения сияющих змей и скорпионов, богов, героев. И меня потянуло тоже соскользнуть туда, вслед за профессором Денгом, я видел на лице его сладострастное блаженство расставания. С берегов доносилось низкое, утробное ворчание жаб или гигантских лягушек. Как долго я стоял там, не знаю, солнце с Востока еще один раз обдало джунгли страшным зноем, еще один раз мелькнула над рекой стремительная вспышка дня, пока чернота, опустившись на птиц и деревья, не закрыла собою все. В неведении тот человек в Амстердаме улегся спать, не подозревая, какой путь предстоит совершить ему. Кто-нибудь его обнаружит, лишь только я закончу рассказывать тебе свою историю, придут люди, чтобы положить в гроб приземистое тело, сжечь его в Дрихёйс-Вестерфелде, моя несносная родня выкинет тот перевод Овидия, а то и, бог весть, тоже сожжет, путеводители д-ра Страбона так и будут печататься еще лет с десяток, пока там не найдут себе другого дурака, кто-нибудь из прежних учеников прочтет в газете извещение о кончине Хермана Мюссерта, скажет лишь, хм, гляди-ка, Сократ помер, а я же тем временем преображусь, не душа моя отправится в путь, как полагал тот, настоящий Сократ, но мое тело пустится в нескончаемое свое странствие, его уже никогда нельзя будет больше изъять из Вселенной, оно приобщится самым невероятным метаморфозам, и оно ничего не расскажет мне об этом, ибо давно уже позабудет меня. Когда-то в прошлом вещество, из которого оно состояло, давало пристанище какой-то душе, похожей на меня, теперь же у этого моего вещества появились иные обязанности. А я? Я должен был обернуться, оставить поручни, оставить все, взглянуть тебе в глаза. Ты махнула мне рукой, и пойти за тобою было нетрудно. Ты учила меня беспредельности, тому, что бесконечно малая частица времени может вместить необъятное пространство воспоминаний, ты учила меня, как я велик — даже оставаясь тем же ничтожным и случайным самим собою. Не зови меня, я уже иду к тебе. Никто из остальных не услышит моей истории, никто из них не увидит — у женщины, что сидит здесь, ожидая меня, лицо Критона, возлюбленного ученика моего, девочки такой юной, что с нею можно было говорить о бессмертии. И тогда я рассказал ей, тогда я рассказал тебе