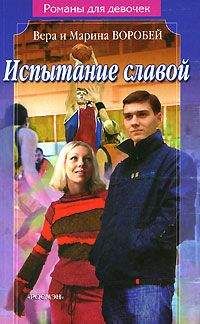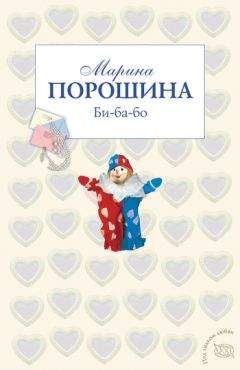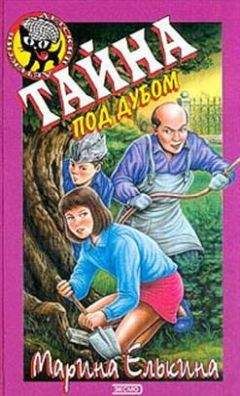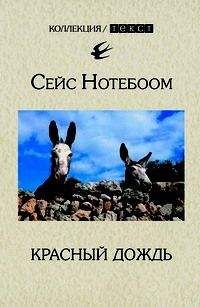Сейс Нотебоом - Следующая история
А потом все кончается. Я отступаю назад, оставляя огромное расстояние между собою и первыми партами. Теперь я буду умирать. Я смотрю в глаза моим ученикам, как, наверное, он смотрел в глаза ученикам своим, зная точно, кто из них Симмий, а кто Кебий, и все это время Лиза д'Индиа конечно же была Критоном, тем, кто в самой глубине души не верит в бессмертие. Я все говорил впустую. Замерев в углу у доски, я смотрю на Критона, любимого моего ученика. Белая и прямая, она сидит за партой. Я говорю, что поэт сказал бы, что судьба призывает меня. Я хочу сам совершить омовение, чтобы женщинам не нужно было омывать мое тело потом, после того. Тогда Критон спрашивает, что они еще могут сделать — для меня, для моих детей, я говорю лишь: единственное, что могут сделать мои друзья, — позаботиться о себе, это самое важное, а когда Критон спрашивает, как я хочу быть похороненным, отвечаю, чтобы помучить его: пусть он сначала ухитрится заполучить меня, подразумевая, конечно же, мою душу — это неуловимое нечто, и укоряю его в том, что он хочет воспринимать меня лишь как будущий труп, что он не верит ни в незримое мое странствие, ни в мое бессмертие, а верит только в то, что я оставлю после себя, в тело, которое он может увидеть. А потом я иду принимать ванну, не покидая уголка этого класса, и Критон сопровождает меня, оставаясь сидеть там, за своей партой; и вижу, как все они не сводят с меня глаз, а потом возвращаюсь и болтаю с человеком, пришедшим сказать, что настало время пить яд. Он знает, этот человек: я не буду отбиваться, не впаду в исступление, как другие приговоренные, которым ему приходится подавать смертоносный кубок, и тогда Критон просит, чтобы я сначала поел чего-нибудь, говорит, что солнце еще освещает горы, что оно пока не закатилось, и тогда все мы смотрим на горы, возвышающиеся на площадке для игр, и видим багровое зарево над синими горами. Но я отказываюсь. Знаю, другие тянут до последнего момента, но я не хочу этого: «Нет, Критон, какой смысл в том, чтобы выпить отраву чуть позже, чтобы, как хныкающее дитя, начать цепляться за жизнь?» И тогда Критон делает знак, и тот человек подходит со своим кубком, и я спрашиваю, что мне надлежит делать, и он отвечает: «Ничего, выпей и походи немного, а потом ноги отяжелеют, тогда приляг. Все произойдет само собою». И он протягивает мне чашу, и я медленно пью из нее, и, осушив несуществующую чашу до последней капли и возвращая ее невидимому служителю, смотрю в глаза Критона — глаза Лизы д'Индиа, — и обрываю все, не станем превращать это в гран-гиньоль. Не лягу на пол, не дам слуге ощупывать мне ноги — не омертвели ли они уже, я остаюсь стоять, где стоял, и умираю, и читаю последние строки, где мною овладевает великий холод, где я вспоминаю о петухе, которого мы задолжали Асклепию, — чтобы показать, что умираю среди этого мира, мира реальности. И потом — все кончено. С лица Сократа приподнимают холст, глаза его остекленели. Критон закрывает их, закрывает его разинутый рот. Но мы этого делать не станем.
Теперь наступает опасный момент — им надо выходить из класса. Им не хочется ничего говорить, и мне тоже. Я отворачиваюсь и ищу что-то в своем портфеле. Знаю, что теории Платона о теле как препятствии для души имели в христианстве продолжение, которое мне совершенно не нравится, знаю также, что и Сократ стал частью многовекового заблуждения западной цивилизации, но вот смерть его трогает меня всегда, в особенности когда я сам играю ее. Потом поворачиваюсь вновь, в классе уже почти никого нет. Несколько пар покрасневших глаз, мальчишки, прячущие лица с выражением «вот уж не думай, что тебе удалось меня пронять». В коридоре галдеж, нарочито громкий смех. Но Лиза д'Индиа осталась, и она действительно плакала.
«Прекрати немедленно, — буркнул я. — Значит, ты из всего этого ничего не поняла».
«Я не об этом плачу». Она складывала учебники в сумку.
«О чем же тогда?» Еще один идиотский вопрос, номер восемьсот семь.
«Обо всем».
Божество в слезах. Ужасающее зрелище.
«Всё — категория слишком общая».
«Ну и пускай. — И, помолчав, с жаром: — Вы сами ни капельки в это не верите, в то, что душа бессмертна».
«Нет».
«Почему же тогда вы так хорошо про это рассказываете?»
«Ситуация в той камере ни в коей мере не зависит от того, как я к ней стану относиться».
«Но почему вы не верите?»
«Потому что он четыре раза берется доказывать. Что всегда есть доказательство слабости. По-моему, он и сам в это не верил или — не слишком-то верил. Однако дело тут вовсе не в бессмертии».
«А в чем же тогда?»
«Дело в том, что мы в состоянии размышлять о бессмертии. Вот что очень странно».
«Размышлять, не веря в него?»
«Что до меня, то и не веря. Но в разговорах такого рода я не особенно хороший собеседник».
Она встала. Ростом она была повыше, и я невольно отступил на шаг. И вдруг она, взглянув на меня в упор, сказала: «Если я порву с Арендом Херфстом, будет ли это значить, что вы потеряете мефрау Зейнстра?»
Прямое попадание. Я еще и не умер, а уже должен был снова играть — в другой пьесе. Невозможно себе представить, чтобы настоящему Сократу когда-нибудь приходилось вести такие вот беседы. У каждого времени припасено свое собственное наказание, а у этого их — великое множество.
«Давай договоримся, что нашего разговора никогда не было», — запнувшись, промямлил я. Она хотела было еще что-то сказать, но в тот момент в классе внезапно появилась Мария Зейнстра и, так как двигалась она с обычной своей быстротой, то, лишь оказавшись уже посреди класса, заметила Лизу д'Индиа. Подобные вещи происходят в доли секунды. Рыжие волосы, метнувшиеся внутрь, черные — устремившиеся наружу, ученица — прижав к губам носовой платок.
«И все-таки совсем еще ребенок», — произнесла Мария Зейнстра с удовлетворением.
«Не совсем».
«Только не надо мне рассказывать».
Тут оба мы заметили книгу, забытую Лизой д'Индиа на парте. Она взяла томик, заглянула: «Платон, такое мне не по уму. У меня они сегодня проходили кровеносные сосуды и артерии».
Она отложила книгу обратно, и тут из нее выскользнул конверт. Взглянув на четырехугольник, она подняла его на просвет.
«Тебе».
«Мне?»
«Если ты Херман Мюссерт, то тебе. Можно прочесть?»
«Лучше не надо».
«Почему не надо?»
«Потому что в любом случае Херман Мюссерт — не ты».
Вдруг она даже засопела от ярости. Я протянул было руку за письмом, но она лишь едва заметно качнула головой — нет.
«Можешь выбирать, — произнесла она. — Либо я отдаю его тебе, и тогда ты меня больше не увидишь, что бы ни было здесь написано, либо разорву его прямо сейчас на мелкие кусочки».
Странная штука — разум человеческий. Обо всем может думать в одно и то же время. Ни одна из когда-либо прочитанных книг не подготовила меня к этому, подумалось мне, и — одновременно — таким вот вздором, значит, и заняты реальные люди, и — тут же — Гораций о подобного рода банальностях написал блистательные стихи, а поверх всего — что я не хочу ее терять, но давно уже выпалил: так рви, — что она и сделала, клочки слов, разодранные буквы бумажными снежинками падали, кружась, на пол, фразы, предназначенные мне, беспомощно валялись теперь на паркете, не произнося ничего.
«Пошли отсюда. Мои вещички еще лежат в пятом «Б».
Коридоры были пустынны, перестук наших шагов звучал то слитно, то порознь, в неравном ритме. В пятом «Б» на доске остался странный рисунок: некое подобие речного водораздела, какие-то слипшиеся комками островки между протоками. Я слышал, как она повернула ключ в замке. На поверхности проток плыли маленькие кружочки.
«Что это такое?»
«Тканевая жидкость, капилляры, лимфотоки, кровяная плазма — все, что находится у тебя внутри и течет себе потихоньку и о чем я не хочу затевать разговор сейчас».
Она обняла меня сзади, прижалась подбородком к левому плечу, краем глаза я видел рыжую пелену.
«Пойдем ко мне домой», — начал было я говорить или, скорее, упрашивать, и в этот момент в коридоре послышались шаги. Мы замерли, не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. Она запечатлела поцелуй на моих очках, так что мне ничего не было видно. С наружной стороны дверную ручку подергали и отпустили, она, щелкнув, пришла в исходное положение. И снова шаги, удаляясь, стихая, пока их не стало слышно совсем.
«К тебе домой мы пойдем после, — шепнула она. — И тогда я у тебя останусь». Значит, решение было принято. Мы будем разговаривать всю ночь напролет, а потом она первым поездом поедет обратно и скажет Херфсту, что уходит от него, а вечером переселится ко мне. Она не спрашивала, она ставила меня в известность. Ночь спустя я видел, она стояла у моего окна и смотрела на улицу при первом тусклом свете дня. Я слышал ее слова.
«Ненавижу свет дня».
И потом еще раз, словно знала, что это будет за день: «Ненавижу свет дня».