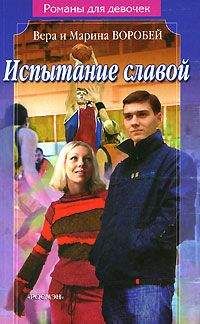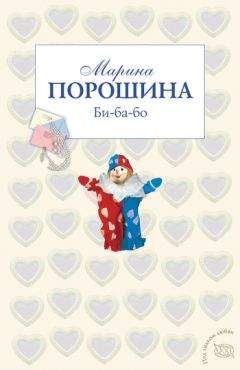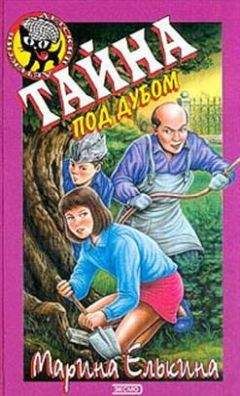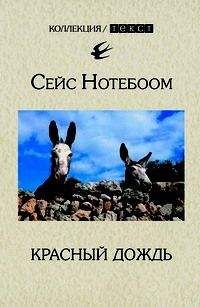Сейс Нотебоом - Следующая история
«Наступает день», — произнес капитан.
«Или что-то в этом роде», — поддакнул Харрис.
Мы рассмеялись, и я заметил, что профессор Денг в моем лице увидел — точнее, почувствовал — то же самое, что раньше привлекло мое внимание в его облике. «Я еще существую?» — спросил я.
«О да», — отвечал он, и, потому что прямо позади него из-за горизонта поднималось солнце, его голова озарилась золотым нимбом и теперь, казалось, исчезла, растворившись в сиянии, а может, так оно и было. Лишь отступив в сторону, я вновь увидел его.
«Рано поутру я отправился в путь, перейдя Небеса вброд, а к вечеру уже подходил к западной окраине мира…», — промолвил нараспев профессор Денг и пояснил, заметив мой недоуменный взгляд: «Тоже Цюй Юань. Время, в котором существуют духи, течет у нас намного быстрее, чем привычное, наше время, да ведь и у вас, полагаю, тоже? Это великий поэт, вам все-таки нужно бы заняться им в следующей жизни. В первых строфах одного большого стихотворения он рассказывает, что происходит из рода богов, а в конце говорит, что покидает этот развращенный, продажный мир, чтобы искать общества святых умерших».
«Не знаю, где оно, то место, чтобы Небеса можно было перейти вброд, — произнес Декобра. — Но мне частенько приходилось вечером бывать далеко на Западе, еще только утром проснувшись на Востоке».
«Коли не имеешь понятия, куда идти, не все ли тогда равно, с какой скоростью передвигаться», — пробормотал Харрис.
Никто не отозвался, словно он нарушил табу. Пожав плечами, он отхлебнул из серебряной фляги, которую носил в кармане брюк.
«Не могу больше выносить свет дня», — сказал он и исчез. Я подошел к краю кормы. Двойной расходящийся след, что мы оставляли, уходил к самому горизонту. Я любил стоять ровно посередине, охваченный изгибом поручней, словно объятием. Буруны следа были окрашены в цвета золота и крови.
«Не могу больше выносить свет дня». Я знал, что если обернусь, то увижу: очертания нашего семизвездья Плеяды исказились, расплывшиеся в разные стороны лишь потому, что я удалился от остальных. Но мне необходимо было постоять там, в одиночестве, подумать. Это были слова, сказанные ею в конце предпоследнего дня моей учительской карьеры, а может, в начале последнего дня, такое тоже можно предположить. Не было мостков сна между теми двумя днями, наверное, поэтому он и показался мне самым длинным днем в жизни. Давай условимся, что в тот день я был счастлив? В моем случае это всегда сопровождается утратой, а значит — меланхолией, но основной тональностью было — счастье. Она ни в какую не хотела говорить, что любит меня («об этом у мамы своей спрашивай»), но проявляла беспредельную ловкость, подгадывая время, придумывая условные знаки и места для наших свиданий. Во всяком случае, в те дни мне удалось вытерпеть даже свой собственный вид, что, очевидно, как-то проявлялось и внешне. («Для такого уродины ты прямо красавец».) Как бы там ни было, а в жизни моей все просто обязано рифмоваться, что ж поделать, и поэтому свой самый последний урок я посвятил платоновскому «Федону». Хоть я и пишу теперь дебильные путеводители, но учителем я был — Божьей милостью. Словно кротких сладостных овечек, я мог провести учеников вдоль тернистых изгородей синтаксиса и грамматики, мог заставить полыхающую солнечную колесницу рухнуть прямо здесь, перед ними, чтобы весь класс озарился пламенем пожара, мог сделать так — и сделал это в тот день, — чтобы на их глазах умер Сократ, с таким достоинством, какого им не забыть никогда, всю свою долгую или короткую жизнь. Вначале еще кое-где — бараньи смешки по поводу моей клички (э, нет, дамы и господа, сегодня я этого удовольствия вам не доставлю ни в коем случае), а потом — тишина. Ибо неправдой было все, что я говорил, — я по-настоящему умер там перед ними. «Еще и час спустя после того, как коллега Мюссерт исполнил свой сократовский номер, они были сами не свои», — отметил А.Херфст и на сей, один-единственный, раз оказался прав. Класс стал афинским застенком, вокруг меня собрались друзья, на закате солнца мне предстояло выпить чашу цикуты. Я мог бы избежать смерти, мог бы скрыться из Афин, однако не сделал этого. Теперь мне позволили еще день побеседовать с моими друзьями, что были моими учениками, мне предстояло научить их, как умирают, и я не был бы одинок в своей смерти, умирая среди них, ушел бы из мира, принадлежа ему. Я — мой другой я — знал, что должен был провести класс сквозь разреженный воздух головокружительных абстракций в высшую химию, науку разделения, где тот, умирающий, хотел отделить душу от тела. Одно обоснование бессмертия души он складывал стопкой на другое, но под всеми этими, такими остроумными и тонкими, доказательствами зияло логово смерти — отсутствие души. То уродливое тело, которое сидело там, меж ними, и болтало, порою гладя кого-нибудь по волосам, которое расхаживало среди тюремных стен, и мыслило, и издавало звуки, вот теперь, скоро, должно было умереть, ему предстояло быть сожженным и похороненным, а другие смотрели на него и вслушивались в звуки, им издаваемые, которыми оно утешало их, утешало себя самое. Конечно же, они хотели верить, что в той нескладной, мешковатой оболочке незримо пребывала царственная, бессмертная субстанция, которая не была субстанцией, но чем-то, что — когда в конце концов то странное, семидесятилетнее тело запрокинется навзничь, нелепо вытянувшись, — улизнет от него и, наконец-то освободившись от всего, что препятствует чистому размышлению, избавившись от его страстей, отправится в путь, покидая мир и в то же время оставаясь в мире, вечно возвращаясь, сочетая невозможное. То, что сам я в это не верил, не имело значения, я играл кого-то, кто верил. Тем днем главное было не в том, что думал я, — речь шла о человеке, который утешает своих друзей в то время, когда именно ему-то и должно быть тем самым, кого утешают; и еще речь шла о том, что можно провести последние часы своей жизни в размышлении, занимаясь не аргументами как таковыми, но перебрасываясь, словно мячиками, идеями, играя предположениями, догадками, доводами и антитезами, натягивая их сквозь пространство, будто тетиву, от одного к другому, резвясь в ужасающей способности человеческого духа размышлять о себе самом, выворачивая суждения наизнанку, обращая их в свою собственную противоположность, сплетать паутину вопросов, чтобы развесить ее потом в пустоте, в том Ничто, где всякая уверенность сможет отрицать самое себя. И опять, как и тогда, с Фаэтоном, я показал им землю сверху, и мои ученики, которые уже сотни раз по телевизору видели Землю парящим бело-голубым мячом, которые давным-давно уже знали, что тот блестящий шарик не есть средоточие Вселенной, стали теперь учениками того, другого Сократа, вместе с ним они выпорхнули из застенка в Афинах и увидели свой — несравнимо более таинственный в те времена — мир «в виде мяча, сработанного из двенадцати кусков кожи», как говорил о нем настоящий Сократ, сияющий мир, переливающийся многоцветьем драгоценных камней, жалким и тусклым слепком с которого был тот мир, где им изо дня в день приходилось жить и откуда спустя всего несколько часов их старый друг должен будет исчезнуть. И я рассказывал им, что в этом мире, который виден с высоты, — единственно истинном и в то же время нереальном — неисчислимое множество подземных потоков струится сквозь недра Геи, вливаясь в великие воды Тартара, воды без дна и предела, безмерные массы, и я суетился, скакал из стороны в сторону перед классом и куцыми своими ручонками перегонял через комнату гигантские лавины воды, как некогда тот, другой, давший мне свои слова, заставлял их обрушиваться в каземат афинской тюрьмы, откуда ему никогда уже больше не выйти. Я стал огромным насосом, качая воду, разливая ее по земле. И я рассказывал им, он рассказывал им о четырех стремнинах нижнего мира, о величайшей из них, Океане, омывающем Землю, об Ахеронте, в смертной покинутости ищущем свой путь, впадая в озеро, куда опускаются души умерших и где они остаются в ожидании новой жизни, о краях, где скалы и языки пламени возвышаются над трясиной; и все снова об одних и тех же человеческих мечтаньях — вечном воздаянии, вечном возмездии; и те несчастные души я так и бросил стоять в тумане, словно кучку рабочих, ждущих автобуса на остановке мглистым зимним утром.
А потом все кончается. Я отступаю назад, оставляя огромное расстояние между собою и первыми партами. Теперь я буду умирать. Я смотрю в глаза моим ученикам, как, наверное, он смотрел в глаза ученикам своим, зная точно, кто из них Симмий, а кто Кебий, и все это время Лиза д'Индиа конечно же была Критоном, тем, кто в самой глубине души не верит в бессмертие. Я все говорил впустую. Замерев в углу у доски, я смотрю на Критона, любимого моего ученика. Белая и прямая, она сидит за партой. Я говорю, что поэт сказал бы, что судьба призывает меня. Я хочу сам совершить омовение, чтобы женщинам не нужно было омывать мое тело потом, после того. Тогда Критон спрашивает, что они еще могут сделать — для меня, для моих детей, я говорю лишь: единственное, что могут сделать мои друзья, — позаботиться о себе, это самое важное, а когда Критон спрашивает, как я хочу быть похороненным, отвечаю, чтобы помучить его: пусть он сначала ухитрится заполучить меня, подразумевая, конечно же, мою душу — это неуловимое нечто, и укоряю его в том, что он хочет воспринимать меня лишь как будущий труп, что он не верит ни в незримое мое странствие, ни в мое бессмертие, а верит только в то, что я оставлю после себя, в тело, которое он может увидеть. А потом я иду принимать ванну, не покидая уголка этого класса, и Критон сопровождает меня, оставаясь сидеть там, за своей партой; и вижу, как все они не сводят с меня глаз, а потом возвращаюсь и болтаю с человеком, пришедшим сказать, что настало время пить яд. Он знает, этот человек: я не буду отбиваться, не впаду в исступление, как другие приговоренные, которым ему приходится подавать смертоносный кубок, и тогда Критон просит, чтобы я сначала поел чего-нибудь, говорит, что солнце еще освещает горы, что оно пока не закатилось, и тогда все мы смотрим на горы, возвышающиеся на площадке для игр, и видим багровое зарево над синими горами. Но я отказываюсь. Знаю, другие тянут до последнего момента, но я не хочу этого: «Нет, Критон, какой смысл в том, чтобы выпить отраву чуть позже, чтобы, как хныкающее дитя, начать цепляться за жизнь?» И тогда Критон делает знак, и тот человек подходит со своим кубком, и я спрашиваю, что мне надлежит делать, и он отвечает: «Ничего, выпей и походи немного, а потом ноги отяжелеют, тогда приляг. Все произойдет само собою». И он протягивает мне чашу, и я медленно пью из нее, и, осушив несуществующую чашу до последней капли и возвращая ее невидимому служителю, смотрю в глаза Критона — глаза Лизы д'Индиа, — и обрываю все, не станем превращать это в гран-гиньоль. Не лягу на пол, не дам слуге ощупывать мне ноги — не омертвели ли они уже, я остаюсь стоять, где стоял, и умираю, и читаю последние строки, где мною овладевает великий холод, где я вспоминаю о петухе, которого мы задолжали Асклепию, — чтобы показать, что умираю среди этого мира, мира реальности. И потом — все кончено. С лица Сократа приподнимают холст, глаза его остекленели. Критон закрывает их, закрывает его разинутый рот. Но мы этого делать не станем.