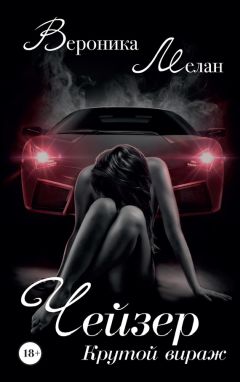Ольга Трифонова - Запятнанная биография (сборник)
Я очень хотела полюбить кого-нибудь и не могла.
А у Тани в те дни, когда Валерий приезжал из Ленинграда, вечером в окнах горел свет большой настольной лампы, «ампирной чувихи» — название Валерия, — лампы с абажуром, укрытым розовым шелковым платком. Абажур держала в поднятой руке бронзовая девушка в летящей тунике — «ампирная чувиха». Мелькали тени, но на форточке не болталась тряпица, все и так было ясно, и я чувствовала себя одинокой и никому не нужной.
Я очень хотела полюбить и печь сандвичи по-мексикански; я даже на всякий случай спросила у Тани рецепт экзотической еды, но печь было не для кого. Правда, изредка, когда Вера уезжала в командировку, баловала Леньку. У нас даже пароль был. Ленька сообщал тихонько: «Покупай кетчуп».
Можно было бы, конечно, удивить Олега, порадовать его, но странное чувство предупреждало меня не делать этого. Мне казалось, будто сандвичи эти дурацкие превратятся в некий символ обещания или согласия, а ни обещания, ни тем более согласия я не хотела.
Я поняла, что наконец имею право на выбор. До сих пор жила в подчинении чужой воле: сначала в детской необременительной зависимости от мамы; потом — в железном распорядке пионерских лагерей, в боязливой дисциплине школы, где запись в дневнике «Разговаривала на уроке» оборачивалась жестоким выговором Веры. Постепенно и незаметно Вера заменила мягкие увещевания и просьбы мамы вечерними беседами, частенько оканчивающимися ее криками и моими слезами. В беседах этих тройка по физике и вечерний поход на каток в «Лужники» связывались в причину и следствие. Причина — посещение катка — выглядела как первый шаг к чему-то темному, о чем и говорить неловко, и темное это было уже совсем близко — тройка явный сигнал, а дальше изгнание из школы и что-то скандальное, неприличное.
Институт мне выбрала Вера. Я собралась на филфак, но Вера слушать не хотела мой жалкий лепет.
— С твоим аттестатом! Не смеши. Пойдешь в институт электроники, там теперь конкурс маленький, хоть на кусок хлеба зарабатывать будешь.
Документы отвозили вместе, чтобы я не выкинула какой-нибудь фортель. Ехали на трамвае, я у окна, молчаливая Вера — рядом. Как под конвоем, ни встать, ни сойти на остановке, хоть кричи «Спасите!». Не закричала, но очков недобрала. Радовалась тайком. Недолго радовалась: Вера кому-то позвонила, с кем-то встретилась из бывших своих однокурсников, меня зачислили на вечерний и даже на работу взяли в лабораторию сварки. Прожигала искрами чулки, смертельно боялась напряжения и гудящего сварочного аппарата, дурела от кислой гари, таскала стержни, кипятила чай для преподавателей. Справилась. На следующий год завкафедрой перевел в металловедение. Там почище. Но тоска — не приведи Господи! Вычерчивала диаграммы плавкости: аустенит, перлит, лидебурит. Ничего не понимала, зачет сдала еле-еле. Неудобно было все-таки свою же лаборантку гнать.
— Ты все выучила наизусть? — тихо спросил аспирант, принимавший зачет.
— Да.
— И ты ничего не понимаешь?
— Ничего.
— Как же ты дальше-то учиться будешь, — сокрушался с искренним состраданием, — ведь дальше-то не вызубришь, ты ж с ума сойдешь, Аня.
Иногда, ночами, вычерчивая на кухне очередной проект, готовясь к коллоквиуму, ощущала, как сзади наваливается что-то опасное, грозящее веселой путаницей формул и схем в прозрачной и бездумной голове. Хваталась за маленькую книжечку в синем переплете:
Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом… —
и странное отступало неслышно за окно, в черноте которого, смело обернувшись, теперь можно было увидеть
…За садом берег чистый,
Спокойный бег реки,
На ниве золотистой
Степные васильки…
А потом появился Олег, и дело было не в том, что считал курсовые, спокойно, по многу раз объяснял принцип работы полупроводников, а в насмешливой легкости, с которой обращался с пугающе-недоступными понятиями.
Появился он неожиданно, вместе с неожиданным поворотом моей жизни.
Весной встретила Раю в переходе на «Свердлова».
— Ну как там, в нашей богадельне?
Я начала рассказывать подробно и вяло нехитрые новости кафедры, но Рая перебила:
— Понятно. Слушай, переходи ко мне в институт. Будешь хоть среди молодежи, живые людишки, живая работа, режим нестрогий.
Оформилась в две недели, Рая помогла.
Потом поняла, почему она так торопилась.
— Аня, надо это вычертить срочно. Аня, съезди в Академснаб. Аня, придется тебе сегодня задержаться.
Везде так — девочка на побегушках, заваривательница чая в обеденный перерыв, ответственная за сахар и сушки; но я не возражала: в конце концов, кто-то же должен все это делать. И если бы не Рая, сидеть бы мне до сих пор в подвале института электроники, развешивать плакаты.
Студенты, пока занимались на кафедре, подхалимничали:
— Анечка, а можно билеты посмотреть? Анечка, а кто зачет принимать будет? — А потом встретят в коридоре и в упор не видят.
Здесь свои. Когда проработаешь год бок о бок в одной комнате, наслушаешься семейных телефонных разговоров, когда стреляешь до получки трешку — узнаешь о человеке все. А человеки в лаборатории собрались хорошие. Я благодарна Рае. Правда, с ней складывается как-то странно. Она каждый день допрашивает меня о наших отношениях с Олегом. Ее интерес обременяет меня, и комментарии всегда недобрые вроде:
— Если бы ты закрутила настоящий роман, эта тягомотина давно бы уже кончилась.
Допрашивает с пристрастием, требуя подробностей, и я словно даю отчет. В откровенности моей есть что-то нечестное, предательское, и получается, что Олег — единственное, что омрачает мою жизнь.
Все, что связано с ним, — тяжело, неясно. Недобрый, цепкий интерес Раи, взгляды Елены Дмитриевны, которые иногда ловлю на себе: «Не обижай моего единственного», — просят ее глаза, от этого ощущение загнанности. И дома Вера ждет не дождется, когда я уйду: «Олег — выигрышный билет, повезло нашей дурочке, надо же — такой парень, но ведь она обязательно отыщет подонка».
Но главное — сам Олег. Его неколебимо веселое терпение, его дружба с мамой и Верой, дающая ему возможность знать все о моей жизни, его нигде и ни в чем не оставляющая меня забота. И нет причины поговорить начистоту, и ни одного серьезного слова — все шуточки да забавные истории. И все так естественно: вечерние звонки с каким-нибудь пустяковым вопросом, ожидание возле института, мои приезды на их дачу.
— Мама, скажи Аньке, чтоб осталась до завтра, ну зачем меня гонять восемьдесят километров, а в электричке не отпущу.
И я оставалась. В маленькой комнатке с покатым потолком, с ковриком на стене у постели. На коврике вышитые фараоны недоброжелательно косили на меня продолговатыми глазами. Я старалась избегать их взглядов; засыпая, давала себе слово, что это последний раз — больше не приеду, и приезжала снова.
Я уже привыкла к Олегу и, наверное, не смогу без него, ведь с ним интересно, и я люблю дом Петровских, и мне, кроме как к Тане, все равно некуда больше пойти.
Я люблю дом Петровских. Здесь рады мне, и здесь я становлюсь лучше; уходя, надевая в передней пальто, просто физически ощущаю, что стала немножко лучше. И это несмотря на то, что Рая объяснила мне как-то, чтоб я не заблуждалась насчет хозяев: они очень воспитанные люди и никогда не выдадут себя ничем. Она объяснила, что Валериан Григорьевич и Елена Дмитриевна наверняка догадываются об отношении Олега ко мне и считают меня неблагодарной и пустой девицей. А может, и хитрой считают. Мол, блюдет себя не напрасно, цену набивает и хорошо устроилась — доктор наук ей курсовые делает, вдалбливает в ее тупую голову премудрости науки, в институт возит, а она это как должное принимает, не соображает, что интеллигентные, любящие без памяти своего сына люди терпят это все из деликатности, недоступной простушке.
Я не верю Рае и не хочу верить. В этом доме есть одна особенность — здесь никто никогда не лжет, даже по мелочи, и ничего не скрывают друг от друга. Есть дома, где при видимой чистоте и блеске замечаешь заткнутую где-нибудь за трубу грязную хозяйственную тряпку, давно немытый труднодоступный закоулок в ванной, так и в отношении людей: в привычном, казалось истинном, вдруг промелькнет фраза, взгляд, интонация, свидетельствующие о том, что за видимым, внешним существует и другое — обычно худшее, чем видимое. У Петровских этого не было никогда. Как постоянная температура и свежий воздух, необходимый для Валериана Григорьевича, страдающего астмой, в уютной красивой квартире неизменно сохранялась атмосфера доверия и любви. Я, привыкшая в своей семье вечно что-то утаивать, хитрить, недоговаривать, чтоб не вызвать неожиданного гнева Веры, и считавшаяся потому закоренелой врушкой, первое время была просто ошарашена неизменной откровенностью Олега.