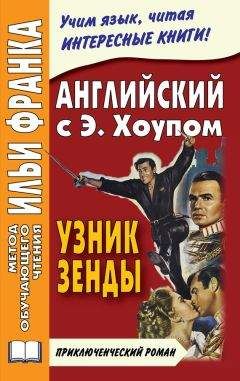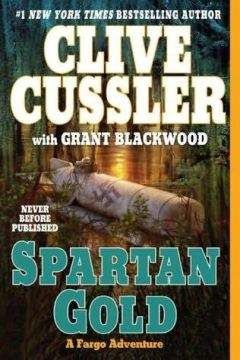Ласло Немет - Избранное
В этой решительной молодой женщине происходило что-то странное, к чему Кизела, как ни подбиралась, приблизиться не могла. Она делала разные намеки, язвила иной раз, но Жофи по-прежнему отговаривалась головной болью или тем, что лучше сна нет ничего на свете. Кизела, однако, чувствовала, что там, за дверью парадной комнаты, где ее принимали все холоднее, образуется особая, ей недоступная жизнь. Иногда она слышала, как Жофи беседует с Шаникой; однажды они переговаривались о чем-то совсем тихо, потом и шепот утих, но тут Шани уронил стул, и Жофи накричала на него, затем послышался звук поцелуя — Жофи просила у сына прощения. «Ишь какая нетерпеливая с ребенком! И тут же лижется-целуется!» — думала Кизела.
— Что твоя мамочка делает, спит? — спросила она как-то выскользнувшего из комнаты Шани, битый час просидев на кухне и слушая, как мальчик пытается изнутри отворить дверь. Обычно Шанике не о чем было разговаривать с Кизелой, в лучшем случае он останавливался и глядел на нее молча или сразу выбегал к своим уткам. Но на этот раз он отозвался:
— Шепчет.
— Что-что? Что мама делает?
— Шепчет. — По черным его глазенкам было видно, что он и сам находит это интересным.
— На ушко тебе шепчет?
— Нет. Шепчет, и все, — упорствовал Шани, и в его глазах, только что заговорщически улыбавшихся, вспыхнуло раздражение. — Не понимаешь, шепчет!
«Три года ребенку, а он не может сказать толком, что хочет», — подумала Кизела. Но на другой день она и сама заметила, наблюдая за Жофи из-за занавески, что та, раскалывая мелкие поленца под окном, быстро-быстро шевелит при этом губами. Она что-то бормотала про себя — вот почему малыш сказал, что мама шепчет!
Эржи Кизелу несказанно сердила эта таинственная внутренняя жизнь Жофи. Старуха ходила по дому с видом оскорбленным и подозрительным, занятая по видимости только своими кастрюльками, утренним кофе да газетой, но в то же время примечая всякую малость. Неожиданно распахивала двери; если Жофи возилась на кухне, занавеска на двери жилицы все время колыхалась; потом Кизела зачастила в палисадник подвязывать астры, чтобы, вдруг выпрямившись, заглянуть в комнату Жофи.
Жофи не настолько погружена была в свой новый мир, чтобы не замечать оскорбленной и не спускающей с нее глаз Кизелы. То и дело, вздрогнув, она переносилась от странных мечтаний в действительность, отягощенную Кизелой, и успокаивалась лишь после того, как, быстро и подозрительно оглядев все вокруг, убеждалась, что занавески на окне задней комнаты плотно задернуты, а неожиданный треск половицы за дверью, когда она вдруг быстро нажимала ручку, не означал, что кто-то стоит в коридоре и подсматривает за ней. Иногда тревога ее вызывалась только укорами собственной совести, в другой раз это и в самом деле была Кизела, которая, вернувшись домой, не выстукивала каблуками до самой ее двери, а сразу шла к себе. Жофи прекрасно понимала, что означают оскорбленно-уклончивые речи Кизелы: «Я и зашла бы, но вижу, что вы в последнее время устаете. Уж лучше пойду к почтмейстерше, чем у вас под ногами мешаться!» Услышав такие слова, Жофи всякий раз начинала зазывать Кизелу к себе с особенным дружелюбием, ставила на стол угощение — обычно это были ореховые печенья, присланные матерью, — однако ореховые печенья не могли смягчить Кизелу, ей необходимы были те горькие вечерние излияния, от которых Жофи сейчас все чаще уклонялась, а если и принуждала себя, чтобы не злить оскорбленно поджимавшую губы Кизелу, то уже без всякого интереса.
Жофи тоже беспокоила происшедшая в ней перемена, которую иногда по утрам, на ясную голову, или после какого-нибудь едкого замечания Кизелы она и сама находила болезненной. Она никогда не думала, что эта глупая, хоть и сладкая игра так захватит ее. Собственно говоря, началось это еще прошлой зимой, когда она отдала увеличить портрет мужа. С тех пор как переехала от свекрови, Жофи не часто ходила к мужу на кладбище… У Ковачей было что-то вроде склепа, с некоторых пор у зажиточных крестьян вошло в моду помещать гробы своих усопших в забранные досками подвалы. Начало этой моде положили Кураторы, и старая Ковач не могла остаться позади. Шандор лежал под широкой каменной плитой, которую установила его мать еще для своего свекра; имя Шандора выбили на камне позднее, под именами старика и его умершей от чахотки дочери. Сверху значилось: «Семейство Ковачей» — и Жофи перед этим камнем всякий раз чувствовала, что Ковачи отобрали у нее мужа и ей здесь нечего делать. Случались и неприятности помельче. Старая Ковачиха, еще издали завидев Жофи, тотчас уходила, но свою мотыгу оставляла на могиле, как бы показывая: как только бы уберешься отсюда, я вернусь. А в день всех святых она вовсе разошлась: отбросила от изголовья венок, который принесла Жофи, повесила его снаружи на ограду, так что Жофи вернулась домой в слезах, твердя, что никогда больше не пойдет на кладбище, что свекровь отлучила ее от могилы мужа.
И тут ей как раз подвернулся какой-то фотограф, бравшийся увеличивать портреты. Жофи ухватилась за это: по крайней мере и у нее теперь будет место, подле которого можно вволю погоревать о муже. У Жофи не осталось подходящей фотографии бедного ее Шандора, кроме одного неплохого любительского снимка, сделанного на охоте; Шандор стоял там в обнимку с Шёмьеном, в охотничьей шляпе, сдвинутой набекрень, а в руке держал кувшин. С этой-то фотографии и сделан был портрет; фотограф подретушировал кое-как шляпу, поставив ее прямее, но раскрытому в хохоте рту и сверкающим зубам так и не удалось придать более подобающий покойнику серьезный вид, наоборот, получилось еще забавнее. Жофи поначалу никак не хотела узнавать мужа в этой пустой, с кривой ухмылкой физиономии под шляпой с перьями, но потом привыкла. Прежде, настроившись подумать о Шандоре, она должна была насиловать свою память, выбирая среди сотен помнившихся ей выражений его лица одно, а теперь на стене висела эта увеличенная фотография, и, чем чаще Жофи на нее смотрела, тем безвозвратнее уходил из памяти подлинный облик мужа.
Однако настоящий культ портрета начался с приездом Эржи Кизелы. Жофи не слишком распространялась перед Кизелой о Шандоре, но в свои жалобы охотно вплетала что-нибудь вроде: «На кладбище-то мне пути заказаны, так я уж здесь нет-нет да и принесу ему, моему бедненькому, цветочков». И с тех пор, когда бы ни зашла Кизела, за рамой портрета непременно красовались свежие цветы. Часто и при жилице Жофи заставляла Шанику забираться на стул и прикреплять цветы к портрету. Сидя на кухне, Кизела не раз слышала, как мать поучала сына: «Папенька все видит из рая, он был очень хороший человек, и ты должен стать таким же, как вырастешь. Когда папенька умер, ты был еще такой малюсенький, как Дундика у дяди аптекаря. Однажды папенька нахлобучил тебе на голову вот эту свою охотничью шляпу. А ты испугался и начал плакать. Тогда папенька отдал тебе шляпу, и ты повыдергал из нее перья».
Постепенно она втянулась в эти рассказы под портретом, которые Шаника слушал, широко раскрыв глаза, как другие дети слушают сказки. Сперва Жофи рассказывала только для Шаники, но потом уже и для себя. В легенды о первом кнуте и о папенькином ружье понемногу стали вплетаться мелкие идиллические воспоминания: «Мамочка тогда была еще девушка, и папенька прислал ей на пасху живого зайчика, а на шее у зайчика была красная ленточка». Или: «На мамочке было белое платье, а на голове тот самый венок, который ты видел в шкафу. И колеса пролеток были все увиты цветами, а кнут — из одних только белых фиалок». Некоторое время Шани охотно слушал эту сказку, но потом начинал скучать, сползал с колен матери и, пользуясь ее размягченностью, требовал варенья. Жофи оставалась одна в вызванном ею к жизни сладостном мареве и, если хотела еще потешить сердце только что испытанным печальным и добрым чувством, вынуждена была рассказывать сказку уже себе самой. Сперва она чуралась этого и почти презирала себя за готовность предаваться мечтам ради мимолетного теплого содроганья. Однако сладостный трепет непобедимо влек ее. Она делала попытку вернуть Шанику к своей сказке. Но Шани уже устал от нее, он плакал и постепенно стал чуждаться висевшего на стене папеньки, за которого должен был молиться. «Не надо, не рассказывай!» — просил он мать с тем внезапно охватывающим ребенка равнодушием, от которого только один шаг до бурного приступа ярости. А для Жофи именно в эти дни все милее становились моменты душевной умиленности, в которых как бы находила отдохновение ее затравленная, выбившаяся из сил ненависть.
Сперва она лишь редко-редко рассказывала себе разные истории о своем муже. Случалось это либо днем, когда Кизела пряталась в свою нору, а Шани посапывал на большой подушке в конце кровати с откинутым покрывалом, либо ночью, когда, взбудораженная очередным сдвоенным монологом, Жофи не могла уснуть.