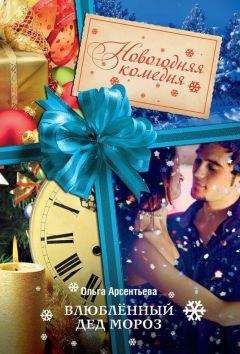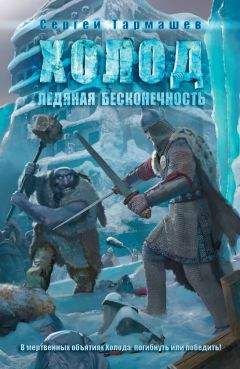Курилов Семен - Ханидо и Халерха
Косчэ-Ханидо собирался в дорогу в большом возбуждении. Ведь не прошло, в сущности, и десяти дней, как он вернулся из страшного самоизгнания, а в жизни его произошли невероятные перемены. Перемены эти будут происходить и дальше, и никто их не остановит, ничто не удержит… Он покидал стойбище, когда богачи, священники и дельцы были еще на месте, когда все они готовились к новым делам, он покидал стойбище сразу после крещения Халерхи, и все это напрягло его, придало уверенности.
Однако он уезжал не в соседнее стойбище.
Как только Косчэ-Ханидо оказался на белой равнине и, оглянувшись, понял, что он один, сердце его сразу стало стучать по-иному. И чем дальше он углублялся на север, тем все сильней и сильней его мучили недобрые мысли.
Отец и мать Косчэ-Ханидо должны будут держать ответ перед сородичами.
Любопытство пощады не знает, оно угомонится только тогда, когда ощиплет загадку, как птицу. Мать же Косчэ-Ханидо больная, припадочная. А он оставит родных надолго. "Каку разорить надо, — подумал Косчэ-Ханидо. — И поскорей".
Эта мысль не только успокоила его, но и раззадорила. Он обрадовался этой мысли. Действительно, все складывается так, что было вполне возможно свести счеты с шаманом, совсем обезвредить его. Каку теперь ненавидит не только исправник, но и поп Синявин, и все русские духовники. Но это не все. Сам Мельгайвач взялся сводить с ним счеты. И как раз Сайрэ — побочный сын Мельгайвача — окажется в Среднеколымске, рядом с Синявиным. Чего же еще желать! Косчэ-Ханидо останется умно и ловко направлять это дело.
Вот так и приближался Косчэ-Ханидо к знакомым местам, то забывая стегать оленей и промерзая до самых костей, то вдруг крякая, обжигая оленьи бока вожжами.
Хорошо, что ничего не знал он о тайном разговоре Синявина с Курилем.
Мысли о расстроенной на целых два года свадьбе сильно придавили бы парня.
Пурга началась поздно вечером, когда Косчэ-Ханидо попал на дорогу, по которой ездил сюда шаман. Самой дороги, правда, и не было — все занесло снегом, был путь, направление. Но он не ошибался и очень обрадовался — путь шел по берегу речки как раз до тордоха; он не раз добирался сюда, проверяя следы шамана. Так что и буран теперь бы его не испугал.
К ночи северный ветер, дующий с моря, будто остервенел. Ледяной, резкий он гнал тучи снега, а порывы его были такими жестокими, что даже закаленный-перезакаленный Косчэ-Ханидо временами чуть не вскрикивал от отчаяния: так ведь дьявол может и душу выхватить. Оленей подстегивать не приходилось — на них была вся надежда: оступится хоть один, вывернет ногу — и все, конец, отпрячь не успеешь, замерзнешь. Никакой непогоды Косчэ-Ханидо не боялся, а тут начал робеть и тревожиться: не проехал ли он заворот-лощинку. И уж, конечно, в голове была одна упрямая мысль: поставить оленей в затишье и скрыться за дверью тордоха.
Лишь глухой ночью он, наконец, добрался до знакомого заворота. С колотящимся сердцем проехал лощинку и в нерешительности потянул вожжи. Кроме высоких сугробов, заструг, ничего тут вроде и не было. Проехал чуть дальше и радостно подстегнул оленей. Сквозь тьму и летящий снег он заметил верхушку тордоха, который словно бы провалился под снег. Ночью никто не топит, однако ожидая увидеть искры, вылетающие из онидигила, и не увидев их, он почему-то спрыгнул с нарты, бросил оленей и побежал, ничего не соображая, через заструги. Подбежал и растерялся — тордох был завален снегом чуть ли не до самого дымохода. В отчаянии он упал в том месте, где раньше был вход, и тычком, обеими руками, как заступом, ударил в снег. Пальцы прошли тонкий свежий налет и ударились, будто о дерево. Сугроб зазвенел. И в ушах зазвенело от страшной догадки — снег, значит, смерзся кругом, и, значит, давно никто из тордоха не выходил… Он бросился на противоположную сторону, сделал круг. Нет никаких следов, все вылизано ветром. "Уехали. Куда? Где искать?.." Но рука выхватила нож — и ровдуга свистнула, разрезанная сверху до самого снега. Он не удержался на ногах и упал в дыру, будто в страшный погреб якутского богача. Внутри был такой мрак, какой и не снился обитателям нижнего мира. Косчэ-Ханидо спрятал нож, вытащил серники, подаренные дьячком, чиркнул-зажег палочку с красной головкой. Кругом снег, рядом замерзшая собачонка, полог не шевелится. "Откуда здесь собачонка?" Он тронул ее и отдернул руку: она была твердой, как камень. Второй серник зажег. Начал искать топливо, будто других забот не было. Присвечивая спичкой и разгребая снег, он облазил на четвереньках весь пол. Но ни прутика, ни остатков плавника не нашел. А на полог не смотрит — боится. "Жердь, жердь изломать", — решил он и бросился выдергивать стойку, державшую полог.
Вырвал, упал. Придавленный снегом, ветхий тордох затрещал и осел. В темноте Косчэ-Ханидо ударил жердь о колено — куда там: толстый тальник крепче лиственницы. Его колотила дрожь: он знал, что полог раскрылся, повиснув на одном уголке. Но, боясь зажечь спичку, оттягивая время, он вынул нож и начал стругать деревяшку, на которой даже на ощупь знал каждый сучок, каждую трещину. И уже настругал немного, однако не вытерпел, отбросил жердь, спрятал нож и чиркнул спичкой.
Они лежали рядом — мать и отец. Нявал перед этим как будто рассматривал на ровдуге заплаты, вспоминая по каждой из них прошлые годы, и так заснул навсегда со сдвинутыми бровями. Жена его словно и мертвой металась — пальцы рук были скрючены, голова запрокинута, шея сильно выпячена вперед, вместо зрачков — белки в щелках. Что происходило здесь, Косчэ-Ханидо понял в одно мгновение, как только догадался, что грудь отца обсыпана не снегом и не мукой, а серым порошком, отравой. Спичка уже догорела, когда он заметил блестящую жестяную банку, лежавшую у ног, на скомканном одеяле. Этой банки никогда не было дома, но он точно знал, что в ней яд: некоторые богачи, спасая от волков табуны, достают у американского купца точно такие банки, отдавая за штуку по два-три песца да еще по нескольку волчьих шкур. Значит, американский купец приезжал сюда; он и оставил здесь собачонку. Как он попал сюда — случайно ли, через Каку, — об этом Косчэ-Ханидо не хотел думать. Его первым желанием было схватить банку и быстро, заедая снегом, наглотаться отравы. Но его удержала мысль: "Вся семья отравилась…" Без размышлений он понял, что это плохо, что это хуже любых его будущих мук, хуже прижизненной славы вора и обманщика бога. Если б родители его ушли из жизни дней десять-двенадцать назад, когда он не ждал возвращения в стойбище, он ушел бы за ними немедленно. Однако сейчас он сказал себе: "Нет, надо как-то не так умереть…"
Потом его охватил ужас положения, в котором он очутился. Прорезанная ровдуга стучала от ветра, как бубен, холод был такой же, как под открытым небом, ледяная пустыня, два дня самой быстрой езды до Улуро, мертвых двое, а нарта одна, он голодный, уставший, а там, за тордохом, пурга и ледяной ветер… Что делать?