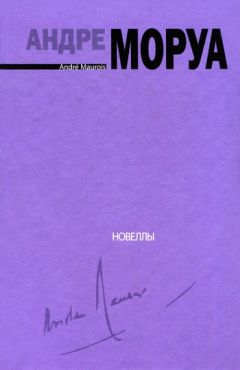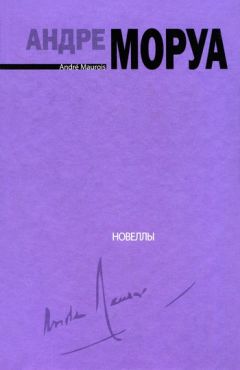Шандарахнутое пианино - МакГуэйн Томас
Тут, как ни забавно, в Энн виделась некая нравственная точность; и то было свойство, преломлявшееся из совсем другой ее части, нежели той, что заставляла ее свешивать из окна голову, волосами по бревнам. А еще страннее, что именно эта часть, а не Рапунцель, некогда вынуждала ее так млеть от любви к Болэну, хамью, Пекосу Биллу; это она околдовывала Энн так, что для той лишь один взгляд на него — и все, срывает швартовы навсегда, хотя так рисковать никто не советует.
Где-то она читала, что любовь — преувеличение, какое ведет лишь к другим преувеличениям; и она присвоила это представление. Ей хотелось шкалы эмоций поутонченней, нежели предложенная любовью. Ее изматывало до синяков грубо чередовать экстаз и отчаянье. Для того, кто верит, что она, возможно, беззаветная интеллектуалка, это унизительно. Той первой зимой они с Николасом гуляли по берегу озера Эри, тщательно стараясь, чтобы опустошающие волны с накатом человечьих отходов не касались их стоп; увлеченные либо всеобъемлющим духовным слияньем, либо мучительной дисгармонией; вспоминая теперь это, думать она могла лишь о ярых, металлических закатах, дугах сухогрузного дыма и бурой унылой черте Канады за ними.
А кроме того, в подобных чередованьях имелось определенное космическое щегольство, окончательность Хитклиффа и Кэти {135}, от которой они сами казались ей важными. Да и скрытность была хороша. Никто не знал, что они в этой лодчонке совокупляются на веревочной койке, из ночи в ночь. Никто не знал, что они запустили и своих граждан в город презервативов, триангулированный между Кливлендом, Баффало и Детройтом. Никто не знал, что они скинулись и отправили матери-настоятельнице из начальной школы Болэна соблазнительную ночнушку из «Фредерика в Холливуде» {136} с запиской: «Настоящей ятой тельницу!» Никто не знал, несмотря на неприятие Болэном Леденса, что она чувствовала, будто трансцендентно пришпилена всю зиму к каждому проходящему дню.
Ныне же, с удобно расположенного дерева в центральной Монтане, Бренн Камбл наблюдал, как Энн рухнула на кровать в замусоренной комнате, дабы несчастно, судорожно порыдать. Ну и зрелище! Он отнял от глаз и опустил бинокль, отвергнув довольно ничтожный позыв к самоистязанью. Ну его к черту. Они — работа, какую нужно выполнять. Он чуял, как в глазах его лепится имперская синева Запада. Он чуял возмужалую выпуклость ковбоя в мифографической экосистеме Америки. Подобно лоснящейся мускулистой гиене, знал он о бросовости болванов и плакс, знал, что хищники, орлы человечества, еще воспарят. Он проелозил вниз, готовый к ранчерству. Уж он-то не плачет с самого детства.
Для барыни Фицджералд на стене готовы были возникнуть написанные от руки буквы {137}, как шаткая механическая истерия, что приняла — в данном воплощенье — форму «хадсона-шершня».
Для Болэна ехать и слушать животноводческие сводки — «Эти жирные волы прут в цене как на дрожжах» — было не так-то просто, как оно казалось; похоже, в Долине Щитов его поджидает обширный гриб-нетопырь реальности; а точнее — поблизости от «Двойного вигвама», сиречь ранчо «Титьки скво». Однако следует сказать в его пользу, что прежней суеты с подходцами, старой околичности в нем уже не было. Нет, как бы ни боялся, подъедет он прямо в лоб.
Из дремотной дневной жары утешенья извлекалось мало. Для начала, лето было жарким и засиженным мухами; но сия трупномухая экстраваганца мерцающих окрестностей вообще не напоминала того, что можно было б звать Монтаной. Зверье носилось ополоумев, а по всей трассе валялась битая дичь. Ручьи текли струйками. Их форель пряталась в ключах и под ярами. Сбоку от дороги оканчивался долгий горный утес, всего-навсего кончик языка у зевающей вселенной.
Пока ехал, он наслаждался видом собственного ужаса с высоты птичьего полета. Свысока, из вышины над горным Западом, Болэн видел автомобилькулу, микроскопическую, зеленую, ползущую по распадку в волос толщиной меж горами с жировик. За рулем кто-то крохотный, не разглядеть. Горизонт изгибался бумерангом. Болэн «добродушно хмыкнул» крохотуле за рулем, какого даже не разглядишь, кто полагал, будто его страх пропитывает все вплоть до самой докембрийской коры. Ай-я-яй!
Бог-Отец где-то там; что же касается Святого Духа, тот просто вихрился тихонько в кювете, не видимый никем.
Болэн раздраженно крутнул шкалу приемника, а в ответ — лишь британская рок-музыка. Это его взбесило. Ну и опаскудилась же мелкая Англия, экспортирует этих своих кроманьонских песенных додо, всех этих изнуренных плюшевых артистов. Болэну подавай Ричи Вэленса или Карла Пёркинза {138} — и немедленно.
Барыня Фицджералд, стараясь хоть как-то загладить резковатые слова и недавнюю атаку с применением шариковых ручек, собственными красными руками приготовила густой горшочек утятины, свинины, ягнятины и фасоли. Своим замечательным парижским венчиком-шариком в огромном луженом медном чане она взбила пудинг; и поставила его — подрагивающий — на сушилку для посуды.
Болэн приподнял передние ворота и качнул их вбок, осторожно переступив через скотозащиту. Руки у него подрагивали. Провел машину внутрь, вышел и закрыл ворота за собой.
Вдоль дороги к постройкам ранчо тек неширокий быстрый ручеек, сильно обмелевший, и там, где он сворачивал, после весеннего половодья намывало широкие отмели гальки. Тут рос ивовый кустарник, а в откосах были ласточкины дыры. За ними начинался смешанный лес, который — знать этого Болэн не мог — представлял собой последний отрезок географии между ним самим и домом. То, что лес состоял из лиственницы, диких трав и желтой сосны, не представляло для него никакого интереса. Ему требовалось многовато ходить по нужде. Относительно небольшая ленточка чистого американского пространства, казалось, накинула ему на глотку удавку.
Болэн не предпринял ни малейшей попытки облегчить свою поступь по веранде и, еще до мысли, хорошенько громыхнул в дверь кулаком. Господин и барыня Фицджералд отворили дверь вместе и раскрыли ему свои объятья, отцовски и матерински. В длинном, тепло освещенном коридоре стояла и робко бормотала «дорогой мой» Энн. Его ввели внутрь, согревая своими телами; всем, казалось, хочется подержать его за руку. «Можно, мы будем звать тебя сыном?» Энн заплакала от счастья. Они подскочили друг к дружке, поцеловались с юношескою страстью, чуть отпрянули друг от друга. «Наконец-то!» Вперед выдвинулся сияющий крепкий проповедник, словно бы на тележке, одной дланью поддерживая Библию, а другую возложив на нее сверху.
Болэн не предпринял ни малейшей попытки облегчить свою поступь по веранде и, еще до мысли, хорошенько громыхнул в дверь кулаком. Услышал, как внутри кто-то движется, и убоялся. Безмолвие тревожили частые нервные попукивания. Он думал: «Уиндекс» {139}, бизоны, Сарагоса. Постучал еще раз, и дверь за небольшой решеткой отворилась на уровне глаз. Не послышалось ни звука. Он постучал еще, тихонько постоял и постучал снова. Из решетки донесся усталый голос — мистера Фицджералда:
— Слышу, слышу. Я просто пытаюсь придумать, что с вами сделать.
— Впустите меня.
Дверь внезапно распахнулась.
— Это точно, — сказал Фицджералд. — Господи помоги нам. — Он захлопнул дверь. — За мной. — Фицджералд втащил его в вестибюль. Болэн последовал за ним в хозяйственный чуланчик. — Сидеть. — Фицджералд вышел.
Болэн простоял почти без движения минут десять или пятнадцать. Ничего. Стиральная машинка остановилась, а несколько минут спустя с жужжаньем замерла и сушилка, которая тоже работала. Болэн праздно открыл стиральную машинку и увидел, что еще мокрая одежда центробежно прижата к стенкам барабана. За ним открылась дверь.