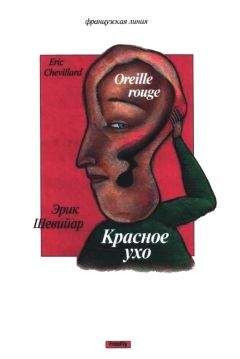Эрик Шевийар - Краба видная туманность
И все же особенно интересны два сугубо французских контекста, с которыми соотносят творчество Шевийяра в последнее время. С одной стороны, изнутри французской культуры невозможно не оценить тот факт, что все романы Шевийяра изданы в ориентированном на интеллектуальные инновации харизматическом издательстве Les Éditions de Minuit («Полночное издательство»), безусловном законодателе литературной и, шире, интеллектуальной моды подчас не только во Франции (на счету этого более чем скромного по масштабам и возможностям издательства среди прочего два дотоле абсолютно непризнанных будущих нобелеата, Беккет и Клод Симон, становление «нового романа», «Анти-Эдип» и «О грамматологии», «Состояние постмодерна» и «Распря», «Любовник» Маргерит Дюрас и неожиданный «Гонкур» отвергнутого всеми остальными дебютанта — Жана Руо…). К новой литературной волне, к молодым авторам, взошедшим на литературном горизонте под звездой «Минюи»[1], новаторам, пришедшим в литературу в начале 80-х, естественно причисляют и Шевийяра. При этом интерес критики в первую очередь вызывает проблема идентификации этого достаточно туманного, определяемого чисто внешними обстоятельствами (а возможно, и просто вкусом и чутьем издателя, знаменитого Жерома Лендона) созвездия, проблема выявления общности в подобной достаточно разношерстной компании.
На этом пути в середине 90-х к «молодым писателям Minuit» и был примерен новый термин: «литературный минимализм» (или «минюимализм»?). Этот ярлык, в полной мере подходящий к таким писателям, как уже известный отечественному читателю Жан-Филипп Туссен, Мари Редонне, Кристиан Остер, Кристиан Гайи, Франсуа Бон, Элен Ленуар, уже чуть хуже крепится к главной звезде сей расплывчатой группы, Жану Эшенозу, с его драгоценнейшей, непринужденно-виртуозной фразой и, на наш взгляд, в еще меньшей степени пристал Шевийяру — да и пристал ли он к нему? Почерпнутый не из музыки, где он более всего на слуху, а из изобразительных искусств термин пытается описать повторенный в эпоху победившего постмодернизма шаг перехода от романа к новому роману, совершенный Роб-Грийе и компанией в модернистские 50-е. Все же таких выделяемых критикой черт этого «направления», как экономное использование и без того простейшей, «элементарной» тематики, скудность повествовательной интриги, переходящая в полную невозмутимость и бесстрастие нейтральность нарративного взгляда, внимание к детали, особенно ничтожной и как бы незначимой, постоянство граничащей с цинизмом иронии, как представляется, недостаточно, чтобы включить в плеяду минималистов и Шевийяра, которому они свойственны, но далеко не всегда определяющи, тем паче, что не меньше черт (богатая риторика, конструктивная роль метафоры, склонность к виртуозным семантическим играм, разработка внутренних ресурсов языка) роднит его и с писателями «максималистского» толка, такими (если оставаться в кругу Minuit) как Эжен Савицкая (между прочим, это мужчина) или Антуан Володин (говорят, это псевдоним).
И последняя, куда более злободневная коллизия. В 2002 году вышла в свет представительная книга известного французского литературоведа Пьера Журда, в подражание знаменитому памфлету Жюльена Грака «Литература для желудка» (1950) достаточно амбициозно озаглавленная «Литература без желудка» («Литература с тонкой кишкой», сказали бы по-русски) и, в параллель своему прототипу, достаточно едко трактующая уже современный литературный процесс в его соотнесенности с внелитературной, в данном случае масс-медийной «кухней», занятой внедрением в галактику Гутенберга тех или иных литературных «меню». [Небольшое отступление. Книга Журда вызвала большой скандал — правда, не своими нелицеприятными литературными разборами, здесь возразить сокрушительной критике таких дутых фигур, как Кристин Анго, Оливье Ролен или «раскрученные» и у нас в стране Фредерик Бегбедер и Мари Дарьесек (на самом деле круг так или иначе изобличаемых Журдом в королевской голости авторов намного шире), по сути нечего. Зато праведный гнев заинтересованной стороны вызвал тот факт, что он посвятил несколько страниц той услужливой критике, тем манипуляциям, при помощи которых официозные литературные институции, в частности — «Мир книг», еженедельный книжный вкладыш к знаменитейшей французской газете «Ле Монд», и его «главный распорядитель», в прошлом бунтарь, а теперь более почетный, нежели другие, гражданин литературной империи Филипп Соллерс, выпекают новые литературные таланты] Так вот, в этой книге, выносящей различной степени суровости приговор многим широко разрекламированным писателям, автор в целом достаточно позитивно оценивает сложившуюся во Франции литературную, чисто литературную ситуацию и связывает надежды на ее будущее с такими писателями, как, например, Валер Новарина (есть по-русски!), Пьер Мишон, Клод Луи-Комбе и, в первую очередь, Эрик Шевийяр, — и надо сказать, что, несмотря на все вышеупомянутые критические хвалы в адрес последнего, этот вердикт был воспринят с откровенным недоумением: все-таки, что ни говори, Шевийяр остается автором для очень немногих, для того интеллектуального читателя, который получает удовольствие от процесса мысли, ибо, не включившись в размышления, подобную литературу просто не прочесть, не почувствовать, что за, казалось бы, игривыми эскападами здесь стоит стремление сломать преграды между собой — тобой — и миром, достичь новой, абсолютной открытости к его неминуемой, неумолимой, постоянно обновляемой новизне, избавившись от предписанных рецептов его восприятия — в том числе и от невольно возникающих прямо при письме.
Призрак
О Крабе уже многое написано, много разного, в том числе и противоречащего друг другу. С ним не церемонились. Одна из книг, полная неуместных утверждений, ни на чем не основанных гипотез, несообразностей, фальсифицированных документов, хлестких суждений, откровенных и двусмысленных измышлений, все еще в ходу. Вот еще одна.
Бедолага Краб, ведь все начинается заново, та же самая история, все та же книга, ему отсюда ни за что не выбраться, ни за что отсюда не выпутаться, вы только на него поглядите: бедолага Краб не успел сделать и трех шагов, как на кого-то наткнулся. Он, правда, заметил его издалека, видел, как тот приближается, приготовился от него увернуться. Тот, со своей стороны, сделал то же самое. Их расчеты вылились в забавное пританцовывание: другой пытается сделать шаг вправо, а Краб — шаг влево, снова сталкиваясь с ним нос к носу. Вторая, зеркальная попытка: противник отступает на шаг влево, Краб — на шаг вправо, на первой же странице мы топчемся на месте: когда один смещается налево, другой смещается направо, из этого противостояния нет выхода.
Мы бы не уделяли Крабу столько внимания, не брали на себя такой обузы в ущерб оставленным на потом куда более неотложным делам, не отворачивались вот так от окружающих, пренебрегая ради него своими семьями, своими друзьями, своими мертвецами, может, и временно, но все же самым решительным образом, мы бы не посвятили ему все свое время, наконец, эти отмеренные нам драгоценные часы, если бы Краб просто-напросто оставался самим собой, был собою полон и замкнут, не распространял свое влияние, то есть если бы удалось удержать его на расстоянии, в стороне, и там О нем забыть. Но об этом не приходится и мечтать. С влиянием Краба на окружающих невозможно не считаться, оно сплошь и рядом воздействует на нас без нашего ведома, напрямую или косвенно, особенно исподтишка, когда случайность заносит нас в те области, где действенны его волны, влияние непосредственное, непреодолимое, наподобие коллективного приступа безудержного смеха или зевоты и столь же стремительно распространяющееся вокруг: и вот уже на всех лицах тик, как у Краба, на всех устах его гримасы, его проблемы с красноречием, дефекты произношения одолевают впредь каждого из нас, путаность мысли проникает в каждый мозг, все тела сутулятся ему под стать, наш шаг неверен, жесты скопированы с него. Вот так и обстоят дела. Если решительно, не откладывая в долгий ящик, не стесняясь в средствах и не останавливаясь перед кровопролитием не превозмочь его постоянно растущее влияние, скоро станет невозможно разобраться, кто же из нас, собственно, и есть Краб.
* * *— Ну да, это, как всегда, выпадает на мою долю, — говорит и впрямь удрученный Краб, ежась под дождем. Но ему ни разу не выпало ни шанса. Если попытаться определить личность Краба в совокупности ее тенденций через одну главную, самую характерную черту, придется забыть и о его опасной неустойчивости, и о пугающем уродстве, ностальгическом злопамятстве, непроходимой глупости, безапелляционной ясности ума, этической и физической цельности, правильной красоте его черт, дабы сделать упор на невезении — длительном, неистовом, как по будням, так и в выходные, ведь именно его всякий раз сковывает стужа, опаляет огонь, и если в этом мире найдется кто-то, кому туман застит все вокруг, кто не перестанет страдать от жажды и в пустыне, вы можете дать голову на отсечение, что это именно Краб, это лицо Краба бороздят с течением времени морщины, притупляются его способности, и тот, кто со дня на день умрет, — вы увидите, это опять он, опять Краб, обделенный судьбою до самого конца, в последний раз ставший жертвой своего невезения.