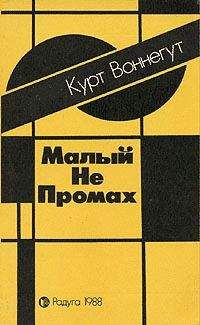Курт Воннегут - Синяя борода
– Но ведь вы мне так нужны, – сказал я. – Как мне уговорить вас остаться?
А сам думал: Боже мои, у них комнаты с видом на океан, приятели Селесты вытворяют тут, что хотят, выпивай себе бесплатно и закусывай, сколько душе угодно. Кухарка может пользоваться, когда хочет, любым автомобилем, а плачу я ей как кинозвезде.
– Могли бы уже выучить, как меня зовут, – сказала она.
Что происходит?
– Выучить? – переспросил я.
– В разговорах вы вечно называете меня «кухарка». А у меня есть имя. Меня зовут Эллисон Уайт.
– Господи! – с наигранной веселостью запротестовал я. – Прекрасно знаю. Ведь я каждую неделю выписываю чек на ваше имя. Может быть, я пишу его с ошибкой или неправильно заполняю форму на социальное обеспечение?
– Вы только и вспоминаете обо мне, когда чек подписываете, а может, и тогда нет. А пока миссис Берман не приехала, и Селеста была в школе, нас с вами во всем доме всего двое и было, и спали мы под одной крышей, и вы ели приготовленную мной еду…
Она умолкла. Видно, решила, что сказано достаточно. Понимаю, ей не легко это далось.
– Итак? – сказал я.
– Все очень глупо, – выдавила она.
– Не знаю, глупо или нет.
И тут она выпалила:
– Я вовсе не собираюсь выходить за вас замуж!
О Господи!
– Разве кто-то собрался жениться? – спросил я.
– Просто хочу, чтобы во мне человека видели, а не пустое место, раз уж приходится жить под одной крышей с мужчиной, любым мужчиной. – И сразу же поправилась: – С любым человеком.
До ужаса похоже на то, что говорила моя первая жена Дороти: часто я обращаюсь с ней так, будто у нее даже имени нет, будто и самой-то ее нет. А кухарка снова будто за Дороти повторяет:
– Вы, видно, женщин до смерти боитесь, – сказала она.
– Даже меня, – вставила Селеста.
* * *
– Селеста, – сказал я, – у нас ведь с тобой все хорошо, разве нет?
– Это потому, что вы считаете меня глупой.
– Молодая она еще слишком, вот вы ее и не боитесь, – сказала мать.
– Стало быть, все уезжают. А Пол Шлезингер где?
– Ушел, – отозвалась Селеста.
* * *
За что мне все это? Я всего-то навсего на один день уехал в Нью-Йорк и дал возможность вдове Берман перевернуть холл вверх дном!
И вот, превратив мою жизнь в руины, она развлекается в обществе Джеки Кеннеди!
– О, Боже! – выдавил я наконец. – Да вы же, теперь я понял, терпеть не можете мою знаменитую коллекцию!
Они вздохнули с облегчением – наверно, оттого, что я перевел разговор на тему, которую легче обсуждать, чем отношения между мужчиной и женщиной.
– Да нет, – сказала кухарка – нет, извините, не кухарка, а Эллисон Уайт, да-да, Эллисон Уайт! Это очень видная женщина с правильными чертами лица: подтянутая фигура, красивые каштановые волосы. Вся беда во мне. Я-то совсем не видный мужчина.
– Просто я ничего в них не понимаю, – продолжала она. – Конечно, образования-то никакого. Если б я посещала колледж, может, в конце концов и поняла бы, как они прекрасны. Мне нравилась одна, но вы ее продали.
– Какая же? – Я немножко воспрял духом, надеясь хоть на какой-нибудь просвет в этой катастрофе: хоть одна из моих картин, пусть проданная, произвела-таки впечатление на этих неискушенных людей, значит, даже их такая живопись может пронять.
– На ней два черных мальчика и два белых, – сказала она.
Я мысленно перебрал свои картины: какую же из них простые, но наделенные воображением люди могли так истолковать? На какой два черных и два белых пятна? Скорее всего, Ротко, это в его духе.
И тут до меня дошло, что она говорит о картине, которую я никогда не считал частью коллекции, а хранил как память. Написал ее не кто иной, как Дэн Грегори! Это журнальная иллюстрация к рассказу Бута Таркингтона про драку двух черных и двух белых мальчишек в глухом переулке городка где-то на Среднем Западе, да еще в прошлом веке.
Видно, разглядывая эту иллюстрацию, они спорили: подружатся ли мальчишки или разбегутся в разные стороны. В рассказе у черных мальчиков были смешные имена Герман и Верман.
Мне часто приходилось слышать, что никто не рисовал черных лучше Дэна Грегори, хотя рисовал он их исключительно по фотографиям. Когда я появился у него, он первым делом сообщил, что у него в доме не было и не будет черных.
«Вот потрясающе», – подумалось тогда мне. Довольно долго все, что он говорил и делал, казалось мне потрясающим. Тогда я хотел стать таким же, как он, и, к сожалению, во многих отношениях стал.
* * *
Картину с мальчиками я продал миллионеру из Лаббока, штат Техас, сделавшему состояние на недвижимости; у него, если не врет, самая полная в мире коллекция работ Дэна Грегори. Насколько я знаю, это единственная коллекция, и он построил для нее большой частный музей.
Прослышав, что я был учеником Дэна Грегори, он позвонил и спросил, нет ли у меня работ моего учителя, с которыми я готов расстаться. Была только эта, она висела в ванной одной из многочисленных гостевых комнат, куда у меня не было причин заходить.
– Вы продали единственную картину, где что-то настоящее нарисовано, – сказала Эллисон Уайт. – Я все смотрела на нее и пыталась угадать, что будет дальше.
* * *
Да, и напоследок, прежде чем они с Селестой поднялись в свои комнаты с бесценным видом на океан, Эллисон Уайт сказала:
– Мы от вас уходим, и нам все равно, узнаем мы или нет, что там в картофельном амбаре.
* * *
Итак, я остался внизу совершенно один. Наверх я боялся пойти. Вообще не хотелось оставаться в доме, и я серьезно подумывал, не перебраться ли в картофельный амбар, не стать ли снова полудиким старым енотом, каким я был для покойной Эдит после смерти ее первого мужа.
Несколько часов бродил я по берегу – прошел до Сагапонака и обратно, возвращаясь памятью к бездумным спокойным дням, когда был отшельником.
На кухонном столе лежала записка от кухарки, извините, от Эллисон Уайт, что ужин в духовке. Я поел. Аппетит у меня всегда хороший. Немного выпил, послушал музыку. За восемь лет армейской службы я выучился одной очень полезной вещи: засыпать в любых условиях, что бы ни случилось.
Проснулся я часа в два ночи: кто-то теребил меня за шею, нежно так. Это была Цирцея Берман.
– Все уходят, – спросонья пробормотал я. – Кухарка уже предупредила. Через две недели они с Селестой уедут.
– Да нет же, – сказала она. – Я поговорила с ними, они останутся.
– Слава Богу! Но что вы им сказали? Ведь им все здесь так опротивело.
– Я обещала, что не уеду, и они тоже решили остаться. Вы бы шли в постель. К утру вы здесь закоченеете.
– Хорошо, – нетвердо сказал я.
– Мамочка уходила потанцевать, а теперь она снова дома. Идите баиньки, мистер Карабекян. Все в порядке.
– Я никогда больше не увижу Шлезингера, – пожаловался я.
– Ну и что с того? – сказала она. – Он никогда не любил вас, а вы – его. Неужто не знаете?
17
Этой ночью мы заключили нечто вроде контракта, обсудили его условия и срок: ей нужно то, мне это.
По соображениям, более понятным ей самой, вдова Берман предпочитает еще пожить, работая над книгой, здесь, а не в Балтиморе. По соображениям, более чем ясным для меня, я, увы, нуждаюсь в такой яркой личности, как она, чтобы жить дальше.
На какую главную уступку она пошла? Обещала больше не упоминать о картофельном амбаре.
* * *
Возвращаясь к прошлому:
Во время нашей первой встречи Дэн Грегори дал мне задание написать сверх реалистическое изображение его студии и после этого сказал, что я должен выучить очень важное изречение. Вот оно: «А король-то голый».
– Запомнил? А ну, повтори несколько раз.
И я повторил: А король-то голый, а король-то голый, а король-то голый.
– Прекрасное исполнение, – сказал он, – великолепно, высший класс. – Он похлопал в ладоши.
Как реагировать на это? Чувствовал я себя, как Алиса в Стране чудес.
– Хочу, чтобы ты произносил это так же громко и убедительно всякий раз, когда будут говорить что-то положительное о так называемом современном искусстве.
– Хорошо, – ответил я.
– Это не художники, а сплошь мошенники, психи и дегенераты, – сказал он. – А тот факт, что многие принимают их всерьез, доказывает, что мир свихнулся. Надеюсь, ты согласен?
– Конечно, конечно – ответил я. Мне казались убедительными его слова.
– Вот и Муссолини так думает. Я в восторге от Муссолини, а ты?
– Да, сэр.
– Знаешь, что прежде всего сделал бы Муссолини, приди он к власти в этой стране?
– Нет, сэр.
– Сжег бы Музей современного искусства и запретил слово «демократия». А потом объяснил бы нам, кто мы есть и кем всегда были, и направил бы все усилия на увеличение производительности. Или работай как следует, или пей касторку.
Примерно через год я осмелился спросить Дэна, кто же мы, американские граждане, такие, и он ответил: