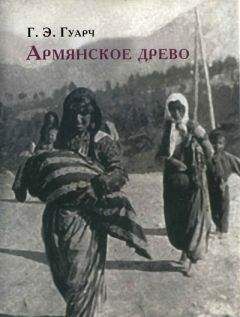Сильвия-Маджи Бонфанти - Сперанца
— Я-то выдержал? Твоя бабка выдержала?
— Не говорите мне о бабушке! Мается она, как грешная душа на том свете, покою себе не находит. Искалеченная, слабоумная, изможденная, и умереть-то не может. Бродит, как проклятая, собирает щепки и зовет убитых сыновей.
— Убитых?
— Да, убитых, загубленных… Молчите, дедушка, молчите! Их загубили. Они не по своей воле родились в этой грязной дыре, чтобы их заживо съели комары и иссушила лихорадка, не по своей воле остались без ухода, без пищи… А с тем, который выжил, с моим отцом, покончили по-другому!.. Я не хочу, чтобы и со мною так было. Дедушка, дедушка! Поймите, я не хочу погибать, как они! — Сперанца топала ногами и сжимала кулаки. — Неужели всегда так будет…
Она умолкла, сама пораженная своей вспышкой, потом отвернулась, заплакала и убежала… Запыхавшись, она остановилась и вдумалась в то, что прокричала минуту назад. Так вот чего она хотела! Она это вдруг поняла, когда говорила с дедом.
Она хотела жизни! Жизни для себя и для детей, которые у нее родятся. Жизни для всех изнуренных, исстрадавшихся людей в этой негостеприимной долине…
Она посмотрела в темноту, в сторону болота, и подумала о тяжком труде людей, которые его осушали, и о том, что они так и будут гибнуть на нем один за другим, если батраки сдадутся.
Послышался шорох шагов. Сперанца обернулась. Она думала, что Минга уже в постели, а старуха все еще бродила в долине и теперь возвращалась, бормоча себе под нос.
— Бабушка! — вполголоса позвала Сперанца.
Минга на мгновение остановилась, казалось, поняв, что ее окликнули, но тут же опять двинулась к дому, ни слова не говоря и не оборачиваясь.
Сперанца содрогнулась. Так, значит?..
И у дедушки хватает духа уверять, что Минге, в сущности, всегда неплохо жилось в долине.
Она опять устремила взор в ночную темь, простроченную фосфорическими огоньками, блуждающими над стоячей водой.
Где мог быть Таго?
И в эту минуту Сперанца приняла решение.
Глава двадцать третья
Уже на дамбе по дороге в селение Сперанца заметила много необычного.
Там и тут кучками стояли мужчины, оживленно толкуя о чем-то; они стояли в такое время, когда все должны были быть на работе; две девушки с большими оплетенными бутылями за спиной, работавшие водоносами в партии батраков, в тени тополя читали по складам напечатанную на цветной бумаге листовку…
В селение Сперанца пришла совсем запыхавшись.
Она шла всю дорогу очень быстро, потому что времени у нее было мало. Она даже не переоделась; и запах молока, которым было пропитано ее платье и от которого у нее всегда были липкие руки, по обыкновению привлекал к ней тучи мух.
Она знала, куда ей идти в селении, и чуть не бегом направилась на площадь. Но, оказавшись перед домом, у которого толпился народ, оробела и остановилась поодаль, не решаясь подойти ближе.
Некоторое время она постояла в раздумье под палящими лучами солнца, отгоняя мух, потом тихонько двинулась вперед, прошмыгнула между колонн, пробралась в толпу… Она слушала с открытым ртом, что говорили вокруг, стараясь уловить связь между отрывочными фразами, и забыла о времени.
Пробило двенадцать, а Сперанца все еще стояла возле дома и слушала обрывки разговоров, машинально отгоняя мух.
Через открытую дверь взад и вперед сновали люди, и Сперанца, наконец, тоже тихонько вошла в коридор, а оттуда в помещение. Там было полным-полно народу, и все стояли к ней спиной, повернувшись к столу в глубине комнаты. Она встала на цыпочки, но из-за сплошной стены спин так ничего и не увидела.
Тогда она нагнулась и, как кошка, проскользнула между людьми. Кое-кто посторонился, наклонив голову, чтобы взглянуть, кто это путается под ногами, но никто не сказал ни слова и не выказал особого удивления.
Пробравшись в первый ряд, Сперанца выпрямилась и оказалась лицом к лицу с человеком, о котором она столько слышала.
Он сидел за столом; у него была острая бородка с проседью и голубые глаза, живые и проницательные.
В эту минуту он слушал молодого батрака, который докладывал ему о положении дел, и кивал головой, глядя прямо перед собой.
Сперанца не вникала в то, что говорил батрак, и почти не замечала его: она смотрела только на человека с бородкой… Она себе представляла его другим: большим, высоким… А он, напротив, был маленький, сухощавый и нервный. Он дробно барабанил пальцами по столу, и на секунду его взгляд задержался на ней. Сперанце показалось, что в его голубых глазах мелькнула смешинка.
Теперь она сознавала, что было бы просто нелепо выложить здесь то, что она собиралась сказать. Здесь все говорили, употребляя слова, значения которых она часто не знала.
Она и ее горести, дедушка Цван и его взгляды были пустяками, ничтожной частью огромного, всеобъемлющего вопроса…
Человек за столом поднял голову и на этот раз открыто улыбнулся.
Обернувшись, Сперанца убедилась, что улыбка эта не вызвана чем- нибудь таким, что происходило у нее за спиной, и, значит, относится не к другим, а именно к ней.
— В чем это ты вымазалась, что на тебя столько мух напустилось?
Сперанца почувствовала, что все взгляды обратились к ней, и стала еще энергичнее отбиваться от мух.
— Да в чем же это ты?
— В молоке.
— В каком молоке?
— Я дою коров в долине и сегодня не успела помыться и переодеться… — пролепетала она покраснев.
— Это внучка старика Мори из Красного Дома, — объяснил кто-то у нее за спиной.
— Она самая, — подтвердила Сперанца. — Я пришла сказать одну вещь…
— Да? Ну, скажи!
В том-то и дело, что ей было трудно говорить перед столькими людьми… Но главный ей дружелюбно улыбался, и Сперанца ободрилась.
— Вот, я хотела сказать… Я хотела спросить, правильно или нет я думаю сделать…
— Ну?
— Я-то знаю, но дедушка Цван не понимает, что к чему, Мы с ним вместе работаем, и когда надо будет бросить работу, в назначенный день то есть… с ним будет трудно. Коровы станут мычать, если их не подоить, а дедушка ведь не понимает… Вот я и надумала сделать так: подоить их, чтобы они не мучились, потому что они ведь не виноваты… Но ведро не подставлять…
— Как, как?
— Подоить их так… Чтобы молоко текло прямо на землю…
И главный и все вокруг засмеялись.
— Сколько тебе лет?
— Тринадцать, синьор.
— Сколько у тебя коров?
— Как когда… Со мной ведь дедушка работает. А всего коров двадцать две.
— Сколько тебе платят?
— Я еще не знаю. Сказали, посмотрят, как я буду справляться.
— А твои где работают?
— Дедушка? Со мной…
— А остальные?
— У меня больше никого нет…
Он не стал расспрашивать дальше, но посмотрел на нее внимательнее.
— Ты знаешь, что такое забастовка?
— Да, синьор.
Он подпер рукой подбородок, и в глазах у него заиграл веселый огонек.
— И что ты о ней думаешь?
— Я думаю, что если она недолго протянется, хозяевам ка нее наплевать, а если долго, они все равно голодать не будут, а мы будем.
— Значит, ты думаешь, как твой дед?
— Нет, нет, синьор, что вы, — поспешно возразила Сперанца. — Он не верит, а я верю.
— Во что ты веришь
— Что мы своего добьемся… Но придется поголодать, вот…
Человек, сидевший за столом, еще с минуту смотрел на нее с дружелюбным интересом, потом обратился к присутствующим:
— Некоторые воображают, что все у нас пойдет как по маслу; другие думают, что все равно ничего не выйдет. А вот эта девчурка смотрит на вещи правильно. Она говорит: нам будет тяжело — и нам действительно будет тяжело, — но мы должны выдержать.
Сперанца почувствовала, что все опять смотрят на нее, и нервно отмахнулась от одной особенно надоедливой мухи.
Потом она проговорила:
— Спасибо, синьор, — и, повернувшись, с бьющимся сердцем направилась к выходу.
Она была уже на пороге, когда ее окликнули,
— Послушай-ка, ты, егоза! Это верно, что у вас во дворе складывают инструмент?
— Да, синьор, две бригады.
— Тогда ты тоже возьми это и раздай рабочим, когда они придут… Поняла?
Сперанца протянула руку, взяла пачку листовок, которую ей передали, и выбежала, прижимая их к груди.
Глава двадцать четвертая
Цван ушел вечером накануне забастовки. Весь день он работал с. каким-то ожесточением, насупившись и ни с кем не разговаривая.
Все это заметили, и многие из батраков потехи ради задирали его.
— Что, Цван, упражняетесь?
— Говорят, завтра Цван один наработает за три бригады.
Сперанца страдала от этих шуток.
Дедушка выводил ее из себя своим упрямством, своим непониманием очевидных вещей, но вместе с тем ей было больно за него.
С вилами в руке и шапкой, надвинутой на глаза, молчаливый и угрюмый среди смешливой молодежи, Цван казался… да, да, сычом…