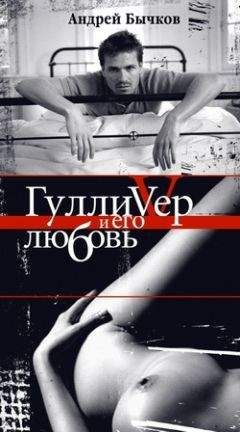Арнольд Цвейг - Затишье
— Дети мои, дети мои, — услышал я неподалеку от себя рассудительный голос наборщика Мартина Гретша, который забирался к себе на койку, — если нам придется оплатить все, что взлетает на воздух там, на переднем крае, то после заключения мира мы с вами позабудем вкус табака.
А его сосед Халецинский успокоил его и голосом, полным сдержанной иронии, сказал:
— Разве ты не знаешь, Мартин, что за все это заплатят наши враги, вот только дай нам победить. Ты почаще читай речи, что твои коллеги из «Крейццейтунг» так ретиво набирают.
Вслед за тем мы уснули, дыша зловонными, отравленными испарениями ста двадцати человек, в удушливой жаре, которая скопилась за день под черными крышами наших бараков.
На следующее утро я проснулся еще до сигнала «подъем», вылез из своей мышеловки, расположенной на высоте в полтора метра от пола, первым умылся и даже решил побриться, так как Бруно Науман был уже на посту; затем я вызвался пойти с дежурными за кофе и завтраком и вместе с шестьюдесятью солдатами, отлично выспавшийся, стал в строй перед бравым Бэнне, который сегодня, с особенной живостью размахивал костылем, на час раньше, чем в прошлый раз, скомандовал двинуться в поход.
— Нынче плевать нам на француза и его снаряды, соли на хвост он нам насыпет, вот и все, — пообещал он всем нам, а своему взводу в особенности, и подбодряюще поглядел в глаза трем своим солдатам. Дело в том, что позавчера, как только первый французский снаряд заставил нас поклониться до земли, эти трое заползли в самый дальний окоп Кухонного ущелья и до нашего возвращения преспокойно играли в скат. То были старые солдаты, еще из кюстринского состава: мирный крестьянин Франц Шульте, с перепугу выронивший трубку изо рта, батрак Питтерс и портовый рабочий по имени Матке, отличный плотник, прославившийся в Сербии своим мастерством. Унтер Бэнне, точно так же как мы все, заметил отсутствие названных трех героев, но промолчал. Мы тоже никому ни слова не сказали, зная, что, если бы до Пане фон Вране что-нибудь дошло, нашим трем молодцам пришлось бы солоно. Но безразлично отнестись к дезертирству этой троицы мы также не могли: ведь на каждого из нас легла доля труда, который должны были разделить с нами еще три пары рук и три пары плеч. Поэтому третьего дня мы с удовлетворением встретили приказ унтер-офицера Бэнне: пока мы будем купаться, три дезертира должны надраить наши котелки, чтобы к вечеру у всех нас была безукоризненно чистая посуда для чая. Вот как между мужчинами улаживаются подобные мелочи. А такая канцелярская душонка, как Глинский, непременно раздул бы эта дело и насладился медом власти.
И тут я, видите ли, получил возможность обрести новое доказательство истины, что наш мир — лучший из миров. Баварцы уже дожидались нас. Угрюмый ефрейтор сердито подгонял их поскорее кончить работу и уйти из этого трижды проклятого места. Я искал глазами Кройзинга. Наверное, думал я, он уже внизу, у второго орудия, с которым нам предстоит сегодня немало хлопот. Обе платформы стояли наготове под хорошим прикрытием на пункте Хундекейле. Мы подошли к нашему длинноствольному орудию. Разумеется, на том же самом месте, как раз там, где начинался спуск в долину, опять лежали новые рельсовые укладки и темнели свежие, только что образовавшиеся воронки, зловещие плоские воронки, окаймленные сверкающими осколками. Возле орудий мы увидели несколько артиллеристов с их унтер-офицерами. В этот день работы были распределены так, что баварцев я видел только издали — они укладывали путь; мы же разделились на два отряда: один разбирал орудие, а второй по возможности бесшумно спускал по рельсам платформы. Наконец авангард баварцев приблизился к нам настолько, что я мог, не привлекая к себе внимания, подойти к одному из них. (Надо вам знать, что у нас очень косились на солдат, которые во время работы вели посторонние разговоры. Унтер-офицер Бэнне и обер-фейерверкер Шмидт предпочитали давать более продолжительные перерывы на отдых.)
Я пожелал баварцу доброго утра. Он удивленно вытаращил на меня глаза, кивнул и ломом ударил по закаменелому кому глины, мешавшему уложить рельс. Я принялся помогать ему, саперной лопаткой выравнивая грунт на ближайших трех метрах, и, работая, спросил:
— А где ваш унтер-офицер Кройзинг?
Баварец подозрительно спросил, зачем это мне вдруг понадобился Кройзинг. Я выразил удивление: неужели человек обязательно должен зачем-то понадобиться, разве нельзя осведомиться о нем просто так, потому что он тебе понравился?
Баварец и на этот раз не ответил, и мне стало страшно. Я сказал, что в прошлый раз пообещал унтер-офицеру Кройзингу книгу для чтения и вот принес ее. При этом я похлопал по карману, и вынул из него томик Э. Т. А. Гофмана в дешевом издании. Я собирался спрятать в книжке письмо Кройзинга.
— Да, — сказал баварец и почему-то назвал меня «дорогой мой», — нашего унтер-офицера Кройзинга ты, к сожалению, увидеть не сможешь, и читать ему уже никогда больше не придется.
Меня, в сущности, удивляет, почему я с первого же слова все понял и, не сделав ни одного сколько-нибудь необычного жеста, сунул обратно в карман мою книжку в обложке телесного цвета и нагнулся, чтобы отколоть ком земли, который нам ничуть не мешал. — Он умер? — спросил я только. Мы подняли нашими ломами и кирками тучу пыли; вероятно, поэтому голос мой прозвучал несколько хрипло. Баварец сплюнул.
— Этого никто не знает, — сказал он. — Нашего унтер-офицера Кройзинга мы положили на платформу и отправили в лазарет. Говорят, его повезли в Билли. Его ранило вчера рано утром. Француз, понимаешь, вдребезги разнес рельсы на том месте, что всегда, никто на это уж и внимания не обращает. Но потом с одного из холмов спустились смененные пехотинцы, и Кройзинг побежал к ним навстречу. (Я знаю, его гнало радостное нетерпение, это было условленное место нашего свидания.) Смененных он и встретил, а среди них были лейтенант и младший врач. Те сложили на Хундекейле свою поклажу и приставили к ней вице-фельдфебеля, а сами уже собирались спуститься в долину, чтобы поскорее убраться подальше. Но тут унтер-офицер Кройзинг сказал, что у него есть для них кофе, и помчался во весь дух на ферму: он хотел согреть этот кофе. Но француз, видно, заприметил смену; он-то отлично знает все эти дороги, ну и пальнул раза два-три с дружеским приветом, чтобы немцы, дорогой мой, не скоро его забыли. И тут один сволочной осколок и хлестнул унтер-офицера Кройзинга в левое плечо, да так, что рука повисла на одних мускулах. Это рассказал нам младший врач, когда после обстрела мы выбежали узнать, что случилось. Мы и увидели: унтер-офицер Кройзинг лежит ничком, и кровь из него ручьем льется, и он очень громко кричит. Только скоро он потерял сознание. Младший врач впрыснул ему морфий и сделал перевязку, какую мог. Надо бы сердечные артерии перетянуть чем-нибудь, но врач самую малость опоздал — рана-то ведь какая! С тех пор мы ничего не слышали о нашем унтер-офицере Кройзинге, и, наверно, не так скоро удастся нам что-нибудь о нем услышать.
Я посмотрел вокруг себя. Над нами вздымался синий свод неба, совершенно безмятежный. На поле, похожем на чашу и словно испещренном оспинами, появилось несколько новых воронок, только и всего. Солдаты, двигаясь длинной редкой цепью, торопились, как третьего дня, к очередному орудию, установленному в глубине ложбины, вернее, широкого ущелья. Унтер-офицер Бэнне и обер-фейерверкер Шмидт выкрикивали слова команды, Бэнне даже с воодушевлением размахивал своим костылем. У баварцев был сегодня более подавленный вид, чем позавчера, более настороженный. Время от времени они нервно оглядывались, уже не доверяя этой мирной картине. Но это мог заметить только наш брат, солдат, у которого глаз наметан.
— Ты что, знавал нашего Кройзинга раньше? — Баварец поднял ко мне залитое потом лицо и, помолчав, задал свой вопрос вполголоса, почти вплотную придвинув губы к моему уху.
Я сказал, что познакомился с ним только позавчера, но сразу увидел, какой это славный малый, и что мне хотелось бы, чтобы в армии было побольше таких, как он, но, увы, я в это не верю.
— Да, — ответил баварец, торжественно глядя на меня своими голубыми глазами, резко выделявшимися на красном, воспаленном лице, — да, я понимаю тебя, мой дорогой. Такого унтер-офицера ты днем с огнем не сыщешь, и, знаешь ли, кое-кто со вчерашнего дня, после того как пал наш Кройзинг, заметно повеселел.
Словно испугавшись, что он сболтнул лишнее, баварец мой боязливо втянул голову в плечи, как черепаха, испуганная неожиданным прикосновением. Но я поднял руку.
— Знаю, — успокоил я его. — Он мне все подробно рассказал.
— Ты был его другом? — спросил он.
— Конечно, — ответил я, глубоко вздохнув.
— А я-то как его любил! — поддержал меня баварец.
Во время перерыва он подошел ко мне в сопровождении другого, очень худого солдата. В расстегнутых куртках, в лихо заломленных набекрень бескозырках они брели с беспечным видом и как бы случайно остановились возле меня. С таким же невинным видом мы отошли в тень и скрылись за стволом одного из тех могучих старых буков, которые, глубоко уйдя в землю корнями, выросли стройными и гладкими, точно колонны или башни, и гордо несли свои великолепные кроны. На этом чуть не трехметровом буке снарядом снесло верхушку и страшно расщепило ствол. «Лучше уж пусть тебя, чем какого-нибудь Кройзинга», — думал я, словно ненароком прижимаясь щекой к гладкой коре.