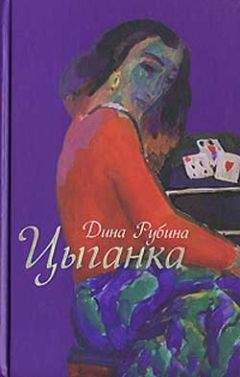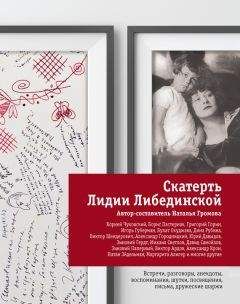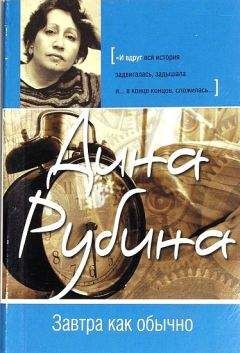Эм Вельк - Рассказы (сборник)
Ночной сторож Берэншпрунг рассказывал: «Берэншпрунг, — говорит мне ротмистр, — сейчас мы им покажем». Меня он почему-то любил, хотя вообще был сукин сын. Ну, я тут как тут, а они давай пулять из своих митральёзов, ну чисто лук из лейки поливают. Вот, думаю, из лейки все выльется, а лук останется. Так оно и вышла, а потом эту проклятую батарею… Они думали, если у них там такие дуры, то все. Во какие засранцы-антилиристы. Не потеряй я тогда ногу… Это уж точно. После в полевом лазарете глаза открыл, а возле меня мой ротмистр стоит. Берэншпрунг, говорит, ведь без тебя бы мы пропали. А потом мне полковник самолично… так точно, собственной рукой Железный крест к форменке пришпилил: «Берэншпрунг, полк тобой гордится». И генерал в приказе по корпусу объявил: «В смертном бою под Массатур мы победили благодаря таким героям, как наш Берэншпрунг…» (Пауза.) Ну, а теперь? Я тебе говорю, что теперь? Теперь какой-то паршивый граф, вишь ты, не желает, чтоб я в годовщину Седана шел за ним. А длиннорясый поп мораль мне читает, что в годовщину Седана выпиваю-де на стакан больше. И я тебя спрашиваю, Муркельманн: «Где на свете справедливость? Нет, ты мне скажи…»
На это Олл Муркельманн отвечал: «Касаемо французов с ихними митральёзами, может, ты и прав, Берэншпрунг… Но антилерия, скажу я тебе, будь там не мусье в красных штанах, а прусская полевая антилерия, где б ты был со своей ногой? Я бы на ихнем месте тебя как жахнул снарядом по передку, места бы не осталось, куда полковнику приколоть крест. То ли дело наша батарея под Вёртом: только мое орудие и стреляло. Гляжу я: ну, думаю, конец пришел. Все лежат товарищи мои, какие померли, а какие кричат. Ну, думаю, пора драпать. Но все ж решил: нет, погоди, Муркельманн, лучше умри героем. Сам заряжал, наводил и стрелял. Французишки врассыпную. Каждый выстрел в цель. Я вижу: вон они — и беглым огнем крою… Заряжаю, целюсь, стреляю! Все сам, чтоб ты знал, а они дёру. Мне бы передохнуть, а я все заряжаю да стреляю, даже наводить перестал. Только заряжал…»
Тут его в первые годы всегда обрывал Крюгер, тоже ветеран; тот, правда, ранен не был и служил в пехоте: «Да, и так все время: заряжал, стрелял. Наводить тебе не нужно было, только заряжать да стрелять. А потом и заряжать перестал. Стрелял да стрелял… Вот теперь мы знаем, почему ты так руками размахиваешь».
На это Муркельманн хрипел: «Так точно… если я и перестал стрелять, так только потому, что проклятый француз гранатой как вдарит… Да. Попробуй-ка со здоровущей дыркой в башке… Что ты понимаешь, пехтура несчастная, в антилерии? Ты получил Железный крест али я? Ты, думаешь, тебе его дадут за здорово живешь? Ты, что ли, выиграл битву при Вёрте или я? Ты герой или я? Ты думаешь, послали б они меня в полевую жандармерию, если б я не был таким заслужённым человеком? А знаешь ты, что такое полевая жандармерия? У меня во какая власть была! Я всех мог заарестовать, всех как есть. Я б тебя зараз арестовал, да только ты и в бою-то ни разу не был. И Берэншпрунга, хоть он герой, и того… мог арестовать. Это точно, по своему усмотренью… И его ротмистра тожа, и полковника тожа, и генерала тожа, то-то и оно. Жандарму все дозволено. А я им был. А теперь что? А теперь я помалкиваю в тряпочку, когда десятник мне велит: „Муркельманн, заткнись и работай!“ А моя старуха такая же паскуда, как граф и пастор… Кто был полевым жандармом, она или я? Кто герой, она или я? Они еще узнают Олла Муркельманна, Нужно революцию сделать, а меня жандармом при ней. Вот ужо достанется им: и господину графу, и чернорясому, и тебе тоже, Крюгер!»
На это Крюгер всякий раз под хохот других завсегдатаев кабачка изображал на лице испуг и подносил Муркельманну четверть водки, чтобы тот его потом не арестовал.
Год-другой существовал еще и третий бунтовщик, тоже ветеран семидесятого года. Он нанялся каретником в усадьбу по протекции самого графа, прослышавшего, что новый работник воевал под Седаном: стань он членом Союза фронтовиков — и Куммеров вышел бы на первое место среди всех геройских союзов округа. Но новый камрад никак не хотел вступить в союз, так что граф только внес его в список, а взносы платил из собственного кармана. Когда же каретник в годовщину Седана и на день рожденья кайзера постоянно сказывался больным и дошел до того, что за кружкой пива — одной-единственной — стал вести подозрительные речи в кабаке: дескать, надо бы обождать да запрячь живоглотов в плуг и он, мол, уже подыскал подходящую упряжь, да вот жаль, что беднота в здешних местах больше тянется к стакану с водкой, а не к веревке для богатеев и открывает рот только для того, чтоб влить в него зелье, вместо того чтобы протестовать, — тут граф его выставил вон. Даже Диоскуры, и те признали, что такой человек им не ко двору. Что правда, то правда: гореть богатеньким синим пламенем, но чтоб бедняк, у которого ничего за душой нет, чтобы и он не ходил в героях и чтоб ему стаканчика водки не пропустить, нет уж, увольте. Наверное, каретник был тайным смутьяном, вроде старика Драйера, которого тоже прогнали. Тот хоть и не защищал отечество под Седаном и вообще солдатом не был, а тоже, выпив, частенько колол людям глаза бедняцкой правдой.
Самым интересным бунтарем для ребятни был Олл Муркельманн. Хотя детишек мало трогали регулярные попойки и распри Диоскуров, но когда приходил черед Олла Муркельманна и он один шел в кабак, они собирались у стойки. Это случалось раз в месяц или в полтора, как правило, сразу после обеда. В это время на Олла Муркельманна находил стих, и было это заметно уже по тому, что в такой день он надевал помятый плотницкий котелок. Обычно он напивался тогда в одиночку. В деревне было не принято ходить пополудни в кабак. Громко разговаривая сам с собой, он за час напивался, и тогда происходило то, что в этой истории, несмотря на ее неизменное повторение, так нравилось деревенской ребятне. После того как Олл Муркельманн в монологе выворачивал наизнанку весь мир от Парижа до Куммерова, он расплачивался, не забыв прихватить с собой поллитровую. бутыль, вставал и, привязав к котелку метелку из перьев, настоящее гусиное крыло, брал в правую руку витую, как штопор, палку, память о тех временах, когда он был странствующим подмастерьем, а в левую — бутыль и направлялся к дверям, громко возглашая: «Ну, а теперь прибью старуху!» И под пение песен странствующих подмастерьев, размахивая палкой и бутылкой, он, покачиваясь, шел домой, преследуемый толпой куражащихся ребятишек. Конец всегда бывал один: придя домой, он и вправду пытался бить свою строгую, серьезную жену, ибо из всех хозяев, от которых страдало его свободолюбие, она, вероятно, представлялась ему самой слабой. И хотя ему и удавалось разок-другой стукнуть ее, крепкая баба тут же вырывала у него палку и разделывала под орех. Иногда она хваталась за метлу, а однажды взяла в руки даже чугунную сковородку. Олл Муркельманн в таких случаях сразу сникал, опускался на пол, а жена хватила его за шкирку и швыряла на постель. Затем она выходила на порог и давала нам жару. А незадачливый бунтовщик тут же засыпал и на другой день вовремя являлся на работу. И так до следующего раза. Ребятня, сопровождавшая его в этих, с позволения сказать, геройских походах, менялась каждый год, а он тридцать лет оставался все таким же.
Когда после первой мировой войны и в самом деле произошла революция, брызги которой долетели и до Куммерова, бунтовщики давным-давно умерли. Может, свержение графа и доставило бы им маленькую радость.
Собственно говоря, с наступлением новых времен в Куммерове ничего не произошло; только нового помещика звали теперь просто господин Шнайдер и был он не гордым графом, а обходительным колбасным фабрикантом; новая монархия звалась республикой, а новый Союз фронтовиков — союзом «Киффхойзер» или «Стальным шлемом». И все же председателем Союза фронтовиков был теперь не помещик, а крестьянин.
Ну, а в остальном? В остальном в Куммерове велись те же разговоры, что и по всей Германии, только теперь вместо «семидесятого года» говорили «с четырнадцатого по восемнадцатый», хотя звучало это так же, как если бы это произносил сторож Олл Муркельманн. Да вот еще, пожалуй, оба Диоскура осмелились бы вслух утверждать, что все же между маршем победителей в семидесятом году и возвращеньем «не побежденных на поле брани» существует большая разница.
Кантора Каннегисера, который в некотором роде тоже был бунтарем, в Куммерове уже не было, когда наступили новые времена. Может быть, он как-то и воспротивился бы им, хотя и по другим причинам, ибо то, что представлялось духом нового, уходило корнями не в семидесятые годы, а на сто лет глубже, вырывая из земли даже могильные камни, чтобы соорудить из них памятник войне.
Еще не просохли чернила, которыми немцы подписали Версальский договор, а в Германии уже началось возрождение. Возрождение того самого германского духа, который за сотню лет почти полностью сожрал немецкую культуру и теперь пытался уничтожить ее остатки. В городах и селах воздвигались солдатские памятники, и самая захудалая деревушка считала делом чести поручить местному каменщику художественное оформление памятника.