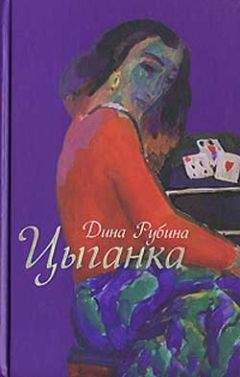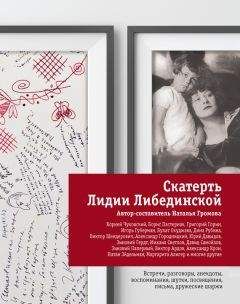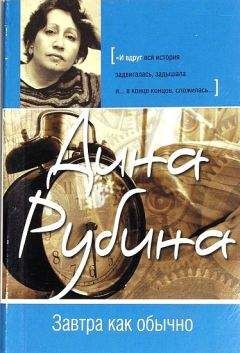Эм Вельк - Рассказы (сборник)
Впрочем, поначалу шансов на взаправдашний белый хлеб вроде бы и нет, потому что нет мельницы, которая могла бы превратить зерно в муку. Человек ловит себя на том, что подыскивает плоские камни, собираясь молоть, как это делали наши пращуры, потом он все же отказывается от своего замысла и начинает по многу часов на дню вертеть маленькую кофейную мельницу, чтобы таким путем добыть хотя бы пшеничную дробленку. Если рука его, обессилев, повисает как плеть, горящие взгляды жены заставляют ее подняться и описывать новые круги. Робинзон Крузо, думается человеку, можно бы подготовить новое издание в духе времени.
Однажды ночью, когда боль в руках не дает мужчине заснуть, он вдруг слышит, как короткое отрывистое дыхание жены, лежащей подле него на подводе, становится судорожным, как она издает мучительный стон, обрывает его, как рвутся на свободу разрозненные звуки — будто крик ужаса и отчаяния пробивается сквозь кляп во рту, как эти звуки переходят в задушенный стон, и, цепенея от ужаса, мужчина наблюдает, как человек, скованный тяжелым сном, страшные подробности которого отражаются на его лице, из последних сил пытается заговорить и защититься. А еще немного спустя, раньше чем мужчина успевает разбудить напуганного, тот издает глухой вопль ужаса и обхватывает самое для себя дорогое на этой земле, чтобы во сне защитить его, хотя бы и ценой жизни: «На помощь! На помощь! Они хотят отнять мой белый хлеб!»
Судорожный страх умирающего от голода и грязи человека за кусочек даже еще и не испеченного хлеба из пшеницы пополам с чертополохом — все это отражается на искаженном лице, когда спичка, дрожащая в руках мужчины, озаряет зыбким светом неуютное прибежище под рваным брезентом и всяческие лохмотья в нем — ах, во что превратил человека человек двадцатого столетия! Спичка гаснет, гаснут искаженные страхом лица, гаснут муки живых существ и стремление их к миру, гаснут звуки, поднявшиеся вокруг телеги, и лишь с другого конца деревни какое-то время доносятся обрывки чужой песни да совсем издалека — собачий вой.
Мужчина снова закрывает глаза, но спать он не может. Еще долго пылает перед его мысленным взором давно — погасшая головка спички. Желто-красный огонек растет, ширится, становится целой поверхностью, необозримым, колышущимся морем спелых пшеничных колосьев высотой с человека. Словно в блаженные дни детства эти колосья окружают страну, которая сулила и дарила хлеб всем людям, страну, которая светит издалека, и этот свет до сих пор озаряет мирные лица работящих людей. Войны сильных мира сего многократно уничтожали пшеничные поля, оставляя на них один чертополох, но всякий раз лемеха плугов бороздили землю глубже, чем бороздят ее колеса орудий, а крестьянин оказывался сильней, чем солдат.
И тут в человеке вновь оживает надежда.
Диоскуры
Их так и называли. Не были они ни близнецами в обычном смысле слова, ни тем более сынами Зевса. Вначале их просто звали «двое», ночного сторожа Берэншпрунга и Олла Муркельманна. Но когда учившийся в гимназии и любивший похвалиться своей образованностью Бернд Брайтхаупт объяснил нам, кто такие Диоскуры и что они совершили, и назвал их имена, случилось так, что вскоре мы, неотесанные деревенские школяры, а за нами и парни с мужиками стали звать ночного сторожа Берэншпрунга Кастором, а Олла Муркельманна — Поллуксом. Поскольку речь шла о широко распространенных собачьих кличках, запомнить их не составляло труда. «Два друга», причисленные таким образом к сонму бессмертных богов, вначале протестовали, грозя исками об оскорблении. Но это только подлило масла в огонь, навеки приклеив эти клички к их обладателям.
Бернд не просто взял и присвоил им эти классические имена. Хотя «двое» были неразлучны, они отличались друг от друга так же, как и их мифологические предшественники. И если бы пришлось выбирать, то божественный наездник Кастор воскрес бы не иначе, как в обличье отставного кавалериста Берэншпрунга, не знавшего страха под Марс ла Тур, а душа кулачного бойца Поллукса переселилась бы в Олла Муркельманна, которого мы с самого детства видели не иначе, как размахивающим кулаками. И оба они подверглись той же каре, которая по воле богов-олимпийцев постигла их предшественников: они постоянно пребывали меж светом дня и тьмой ночи, и воровали они тоже сообща, как Кастор и Поллукс, пусть не коров, а прочие нужные вещи.
Соответствие сынам богов зашло так далеко, что как-то ночью они, подобно Диоскурам, спрятались в дупле. Правда, не дуба, а старой ивы. И спрятался в нем один Олл Муркельманн, а ночной сторож Берэншпрунг его охранял, что он и обязан был делать по роду занятий. Когда подбежали преследователи, ночной сторож Берэншпрунг объявил: «Тут кто-то побег, я за ним. Вот только проклятая нога… А он как сиганет, ну как сквозь землю провалился».
И все бы сошло благополучно, если б Олл Муркельманн не закашлял в старой высохшей иве. Его вытащили оттуда, но в суматохе забыли посветить в дупло. Сторож Берэншпрунг страшно ругал задержанного, а потом под эскортом преследователей доставил его в пожарную часть. Олл Муркельманн ни по дороге, ни после ничего не выдал, а только размахивал кулаком и грозил богачам страшной местью. На следующий день пришлось его отпустить, потому что у него ничего не нашли. Он объяснил, что побежал и спрятался в старой иве шутки ради, чтобы посмеяться над своим другом и заставить его побегать.
А друг сразу после доставки пленного в пожарную часть вернулся к старой иве, вытащил оттуда индюка и, спрятав его под пальто, пошел домой. Вместе с другими обитателями богадельни они съели птицу. Олл Муркельманн довольствовался одной порцией: он украл индюка из чисто спортивного интереса — или из мести богачам. Принести его к себе домой он не осмелился: жена выставила бы его вместе с птицей. Индюк был с барской усадьбы. Там их водилось много, а значит, и греха в том не было. Доносить никто б не стал: сотрапезники не любили богатых. Когда же об этом стало известно, смеялась вся деревня, а Диоскуры начисто все отрицали. В усадьбе индюка давно забыли, их там действительно водилось много.
Это не просто уморительная история, рассказанная «под мухой», чтобы посмеяться над людской глупостью. Корни ее уходят глубоко в нашу деревенскую землю, а ветви и листья широко раскинулись над ней. Но в то время всей деревне и нам она казалась именно такой веселой историей; правда, позднее кое-кто серьезно задумался над ней.
Мы знали только, что оба мужичка были бедняками, а Олл Муркельманн слыл запойным пьяницей, хотя и пил немного. Зато ночной сторож Берэншпрунг мог пить сколько влезет и, несмотря на это, почти никогда не качался. Один неделями ходил трезвый и прилежно работал на лесопилке: он жил в полуразвалившемся домишке, имел приличную жену, которую, будучи трезвым, слушался беспрекословно, детей давно уже разбросало по свету. Другой обитал в богадельне, и потому родная дочь, вернувшись из города с прижитым сыном, вела ему, что называется, хозяйство, если у нее после дойки крестьянских коров оставалось время.
Два друга стали неразлучными сразу после войны тысяча восемьсот семидесятого года. Тогда они ходили в великих героях и еще не были жалкими пенсионерами. Муркельманн вернулся домой после тяжелого ранения в голову, а у папаши Берэншпрунга одна нога была деревянной. Зато в первые годы, когда союз фронтовиков устраивал шествия, увенчанные венками из листьев дуба, они шли отдельно, позади председателя союза, старого графа, и впереди всех крупнопоместных крестьян. В зале они сидели между первым председателем и вторым, деревенским старостой, а в торжественных речах их заслуги отмечались особо. Тогда они охотно возвращались по ночам в свои убогие жилища или их приводили домой. Они безропотно терпели нищету и трудились до следующего всенародного праздника, которых, по счастью, в году было три: день рожденья императора, Седан и день рожденья графа.
Но время, время делало свое дело. И хотя оно выжгло эти три великих праздника в сердцах людей, с каждым годом стиралась память о подвигах ветеранов и кавалеров Железного креста. Старые фронтовые друзья умирали один за одним, а новые члены союза были людьми, просто где-то служившими, — героями казарм. Как например оба новых председателя. И уже никто не чествовал ни венком из дубовых листьев, ни почетным местом в день рожденья императора и графа и не воздавал хвалу двум прославленным героям, только в годовщину Седана о них снова вспоминали, да и то вместе с другими участниками войны, вернувшимися домой невредимыми. От такой забывчивости и неблагодарности помогала разве что водка, умеренное бунтарство и безмерное бахвальство.
Тут уж подвиги превращались в решающие сражения, а сами рассказчики — в деревенских дурачков, над которыми все добродушно подтрунивали.
Ночной сторож Берэншпрунг рассказывал: «Берэншпрунг, — говорит мне ротмистр, — сейчас мы им покажем». Меня он почему-то любил, хотя вообще был сукин сын. Ну, я тут как тут, а они давай пулять из своих митральёзов, ну чисто лук из лейки поливают. Вот, думаю, из лейки все выльется, а лук останется. Так оно и вышла, а потом эту проклятую батарею… Они думали, если у них там такие дуры, то все. Во какие засранцы-антилиристы. Не потеряй я тогда ногу… Это уж точно. После в полевом лазарете глаза открыл, а возле меня мой ротмистр стоит. Берэншпрунг, говорит, ведь без тебя бы мы пропали. А потом мне полковник самолично… так точно, собственной рукой Железный крест к форменке пришпилил: «Берэншпрунг, полк тобой гордится». И генерал в приказе по корпусу объявил: «В смертном бою под Массатур мы победили благодаря таким героям, как наш Берэншпрунг…» (Пауза.) Ну, а теперь? Я тебе говорю, что теперь? Теперь какой-то паршивый граф, вишь ты, не желает, чтоб я в годовщину Седана шел за ним. А длиннорясый поп мораль мне читает, что в годовщину Седана выпиваю-де на стакан больше. И я тебя спрашиваю, Муркельманн: «Где на свете справедливость? Нет, ты мне скажи…»