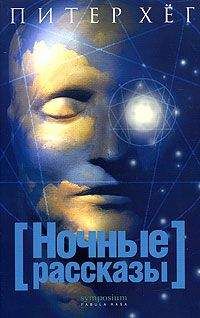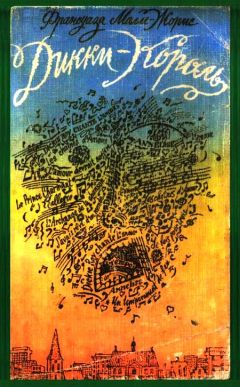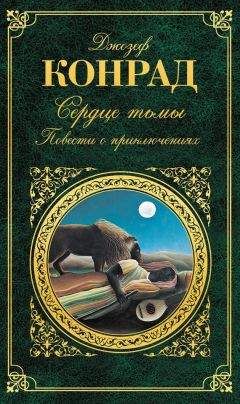Франсуаза Малле-Жорис - Бумажный домик
Или:
Мама берет такси
Мама, хрупкая, белокурая, изящная, в сопровождении моей сестры прибывает из Антверпена на Северный вокзал и, сгибаясь под тяжестью многочисленных чемоданов и сумок, выходит на площадь. Такси очень мало. Желающих много. Перед мамой какая-то дама берет последнее такси. Горизонт пуст. Мама — мягко, но решительно:
— Мадам, куда вы едете?
Дама, застигнутая врасплох:
— Авеню Моцарта. Но…
Мама:
— Мне как раз в ту же сторону. Садись вперед, Микетт (моей сестре). Мы доедем с вами до авеню Моцарта, а потом поедем дальше.
Дама, уже в такси:
— Нет, нет, я протестую!
Поздно, моя сестра успела сесть рядом с шофером (щеки у нее пылают, но честь семьи превыше всего), а наши вещи громоздятся вокруг дамы. Мама тоже садится. Шофер, забавляясь, хранит нейтралитет.
— Но я не согласна! Я требую, чтобы вы вышли! Это уж слишком! Вы…
Мама, все так же мягко:
— Шофер, авеню Моцарта.
Такси отъезжает. Дама поднимает крик. Мама потом рассказывала:
— Ты представляешь, Франсуаза, она вопила всю дорогу, пока мы ехали от Северного вокзала до авеню Моцарта. Словно ее похитили. Вот это темперамент!
Папа — устный рассказчик. Мама — писатель. Их юмор проявляется по-разному. Папа отталкивается от события, от внешних обстоятельств. Мама сосредоточена в себе настолько, что вступает в резкое противоречие с нормальным ходом вещей, который она обычно просто не принимает во внимание. При этом она не лишена практического смысла и даже проявляет большую изобретательность, когда сталкивается с трудностями, которые, как правило, рождены ее воображением. Так, под впечатлением рассказов о пожарах в универмагах она решила, что никогда больше не выйдет из дома без карманного фонарика («Понимаешь, первое, что в таких случаях делают, — это отключают электричество») и двадцатипятиметрового нейлонового каната с узлами («И вот тогда я прикрепляю свой канат и спускаюсь по нему, это проще простого»). Я восхищаюсь жизненной силой этой женщины, которая, как бы моложаво она ни выглядела, бодрым шагом приближается к своему семидесятилетию.
— Но ты же не можешь всюду носить с собой этот канат, на коктейле, например, а если уж пожару суждено случиться, он обязательно случится именно в этот день!
— Какая ты фаталистка, Франсуаза! Я просто стараюсь повысить свои шансы, вот и все. Обыкновенная статистика.
Мама встречает знакомого на бульваре Сен-Жермен.
— Вы прекрасно выглядите.
— Да, — отвечает мама. — Я провела потрясающую ночь с Конфуцием.
— С кем?
Но мама уже удаляется своей упругой девичьей походкой.
Мы в Швейцарии с папой в ультрасовременном отеле, где стеклянные двери открываются и закрываются автоматически (регулярно защемляя несчастных индусов), а чемоданы, которые доставляет отъезжающим туристам хитро придуманный транспортер, как правило, по дороге застревают, теряются, прибывают с опозданием. Папа наблюдает за этим с иронией. Прождав наши чемоданы тридцать пять минут, он обращается к украшенному галунами швейцару, который высокомерно игнорирует наши жалобы:
— Вы в Швейцарии утверждаете, что у вас лучшие в мире часы, но они явно опаздывают!
Швейцар испепеляет нас взглядом, но юные лакеи — итальянцы, которые не принимают технический прогресс столь близко к сердцу, — прыскают со смеху. Мы уезжаем отмщенные.
В разговоре с одним весьма официальным господином, который к месту и не к месту похваляется, что участвовал в Сопротивлении, папа говорит:
— А я тоже участвовал. Но только как любитель, а не как профессионал.
Родители, которые заставляют вас и смеяться, и гордиться ими одновременно, — вот с чего, по-моему, и начинается настоящее воспитание.
Моя бабушка рисовала цветы. Без особого таланта, но зато с каким увлечением! Когда ей было уже далеко за шестьдесят, она появилась как-то утром у моих родителей очень взволнованная.
— Дети мои, я открыла удивительного художника! Я потрясена! Я видела «Подсолнухи» Ван Гога! Я меняю манеру!
Вот история, которая кажется мне в полном смысле слова поучительной.
В конце жизни, когда врачи запретили ей вставать с постели, она, чтобы обмануть медсестру, поднималась затемно, с тысячами предосторожностей доставала свой крошечный мольберт и поспешно уходила из дома, готовясь вкусить запретный плод — набросать еще один пейзаж. И если эта история относится не к гениальному художнику, а к скромной женщине, лишенной всяких притязаний, по-своему наивно и бесхитростно влюбленной в красоту, становится ли она от этого менее поучительной? По-моему, как раз наоборот.
Девушки Даниэля
Иногда Даниэль приводит домой своих девушек. Они слушают музыку, обедают, смотрят с нами телевизор, со временем они появляются все реже и реже и наконец совсем исчезают. Мы скучаем по ним. При первом появлении мы всегда надеемся на что-то серьезное. Где ее встретил Даниэль? Играет ли она на каком-нибудь инструменте? Поет ли? Любит ли детей? Увидав белокурую головку в полуоткрытую дверь, Полина кричит:
— Так ты наконец обручился, Даниэль?
Даниэль считает, что столь сердечный прием имеет свои положительные и отрицательные стороны. Ведь когда мы с таким пылом принимаем его увлечения, нам бывает трудно быстро остыть. Мы оплакали двух Мишель, одну Марианну, одну Фанни. Симона нас несколько утешила, Паскаль мы не любили. Нам очень нравилась Сара, и нам бы хотелось, чтобы Даниэль позволил нам по крайней мере поближе ее узнать.
— А почему ты больше не видишься с Жанниной? — вздыхает Полина. — Мы ведь так ее любили…
Даниэль терпеливо выносит наши приставания. Тем не менее с некоторых пор, приводя домой новую девушку, он предупреждает меня:
— Не привязывайся к ней, ладно? Ничего серьезного. Давайте без эмоций!
Даниэль:
— Я просто боюсь приводить своих девушек в дом: вы так сердечно их принимаете, что потом, когда мне надо порвать, я не знаю, как им об этом сказать.
Мама
У мамы пристрастие к лекарствам. Она прямо колдует над ними: отбирает, раздает, определяет дозу, дает советы, как принимать, призывает к осторожности — и все это, пожалуй, не столько в интересах здоровья, сколько в качестве гигиенической забавы и еще для общей эрудиции. Когда мама размышляет: «А что, если я приму четвертушку коринфара и половинку мепробамата, по-моему, результат будет очень интересным…» — она похожа на алхимика, рискующего тысячу раз взлететь на воздух ради ценного открытия.
Мама:
— Сегодня с утра я чувствую себя совершенно разбитой. Представляешь, вчера вечером вхожу в кабинет твоего отца и вижу лекарство, которое мне незнакомо. Естественно, я не могу удержаться… принимаю таблетку… И вообрази, я почти не спала!
Ее задумчивое лицо все же выражает удовлетворение: опыт был мучительным, но он ее обогатил.
Папа
Папа не выказывает восторга по поводу длинных волос Даниэля. Но в душе он не слишком обеспокоен. У Даниэля есть тысяча достоинств, которые длинные волосы могут скрыть от кого угодно, но только не от нас. Конечно же, стадии развития, которые он переживал — побрякушки, саксофон, поздние возвращения домой, диковинные одеяния, — могли вызывать у нас некоторую тревогу, но за всей этой эксцентричностью чувствовалось что-то прочное и внушающее доверие. Что именно? Я ищу, папа находит:
— Он неблагоразумен, но он серьезен. В этом определении я вижу целую жизненную философию.
Мама
Мама, страстная поклонница философии, не терпит, чтобы не разделяли ее симпатий и антипатий.
— Что ты делала вчера, дорогая?
— Обедала у П…
На мамином лице огорчение:
— Дорогая! Я ведь не сказала тебе! Ах! Я должна была…
— Да в чем дело, мама?
— Представь себе, две недели назад я виделась с П., у нас был довольно обстоятельный разговор, и я убедилась, что…
— Что?
— Что он не истинный платоник!
Изабелла, Куба и революция
— Мари, — говорит мадам Жозетт, — была самая умная. Изабелла самая красивая.
— А вы, мадам Жозетт?
— О! Я… Я самая тихая.
Сага мадам Жозетт разворачивается медленно, неделя за неделей, иногда в ней мелькнет проблеск истинной поэзии. Порой я вдруг чувствую ожидание, надежду, а порой — лишь долгое смиренное молчание, мрак, окутавший душу, что она принимает с рабским терпением. Вот уже пятнадцать лет, с тех самых пор, как я стала лечить у нее волосы, она разматывает передо мной тонкую серую нить своей жизни. Но в этом сером столько оттенков!
— На каникулы мы ездили к дяде, в Ланды. Там края колодцев на уровне земли прикрывают решетками от детей и животных. Но иногда про решетки забывают, а может, Белла сама снимала их, точно не скажу. В общем, она раскачивалась над этими колодцами, опираясь только на локти и спустив ноги вниз, в эту дыру, к самой воде. Так и качалась: взад-вперед, взад-вперед. Сами понимаете, я умирала от страха и подойти к ней боялась, вдруг упадет, а она хохотала, запрокинув голову: «Боишься! Боишься!» И правда, я боялась. А еще она взбиралась на стену монастырской часовни: «Меня обидели! Я брошусь отсюда». Внизу толпились сестры: «Изабелла! Мы вас умоляем!» А я твердила ей: «Когда-нибудь ты на самом деле упадешь! Вот увидишь».