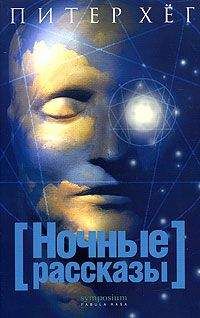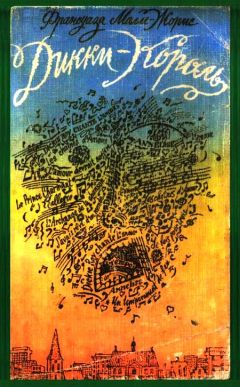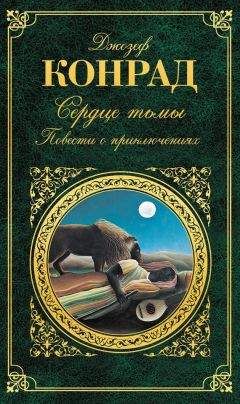Франсуаза Малле-Жорис - Бумажный домик
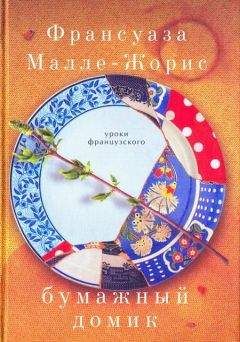
Обзор книги Франсуаза Малле-Жорис - Бумажный домик
Франсуаза Малле-Жорис
Бумажный домик
«Важнее быть серьезным, чем благоразумным», — говорил мой отец, которому я с любовью посвящаю эту книгу.
Венсан и я
Венсан (одиннадцать лет). Знаешь, мама, чтобы мир стал прекрасным, надо…
Я. Да?
Венсан. Надо сначала уничтожить комаров.
Я. Вот как?
Венсан. Да, и еще гадюк.
Я. Это почему?
Венсан. Потому что из-за ядовитых змей страдают ужи. Их путают — когда видят ужа, кричат: «Ох, гадина!» И ему обидно. А если на земле из всех змей останутся только ужи, ты будешь твердо знать, что они не кусаются, и скажешь: «Ах, какая красивая маленькая змейка!» И ужу будет приятно. Если бы я мог переделать мир…
Я. А ты считаешь, что он сделан плохо?
Венсан. Нет. Я ведь не привереда.
Я. Ну и кого бы ты еще уничтожил?
Венсан. Из животных почти никого. Львов и крокодилов я бы, например, оставил…
Я. Ну да?
Венсан. Да, оставил. Из-за путешественников. По-моему, им бы не понравились путешествия без всякого риска. Что это за приключения без львов и крокодилов?
Я. Само собой.
Венсан. А вот некоторых субчиков, знаешь, хорошо бы вжик, вжик, вжик… Это уж точно.
Я. Каких таких субчиков?
Венсан. Сначала надо их как-то распределить. Во-первых, это те, что затевают войны, мятежи, потом те, что злобные…
Я. А это не одни и те же?
Венсан. Не обязательно. Есть еще обжиралы…
Я. А это кто такие?
Венсан. Те, что норовят заглотнуть побольше, даже если не голодают, но главное, конечно, те, что воюют. И с соседями, и дома. Я хочу сказать, в собственной семье.
Я. Ты считаешь, что на них все-таки можно найти управу?
Венсан. А почему не попробовать? Тут нужен Глаз.
Я. Глаз?
Венсан. Да. Глаз — в каждом доме. Как только он увидит, что затевается свара, он даст им послушать какую-нибудь приятную музыку, чтобы они перестали.
Я. А если они не перестанут?
Венсан. Тогда нужен Глаз-начальник, его предупредит электронное устройство, и он пошлет к ним очень добрых жандармов, которые их успокоят.
Я. А разве такие бывают?
Венсан. Кто?
Я. Очень добрые жандармы?
Венсан. Их специально подготовят. По всем правилам науки.
Я. А тебе не кажется, что это противоречит свободе совести?
Венсан. Когда не даешь людям ругаться?
Я. Да.
Венсан. Возможно. И все же Глаз не помешает. Синий. Вот если б я был богатый и мог купить все на свете…
Я. Что бы ты купил?
Венсан. Все. Но я могу и понарошку…
Я. Как это?
Венсан. Я говорю себе: я могу купить все. Но мне не к спеху, и я не покупаю ничего. Это одно и то же.
Я. Почти.
Венсан. И еще я бы хотел быть при Воскресении.
Я. Вот как?
Венсан. Да, и задать кое-кому несколько вопросов.
Я. Кому именно?
Венсан. Например, Жерару де Нервалю. Я бы спросил у него, что он на самом-то деле имел в виду в своем стихотворении, которое ты не смогла мне объяснить. «Амур я или Феб»… Только, наверное, у него всякая охота пропадет оживать, если к нему станут приставать с такими вопросами.
Я. Вполне возможно.
Венсан. А может, он вообще захочет стать бакалейщиком для разнообразия… И еще я бы с удовольствием поговорил с первобытным человеком. Я спросил бы: правда, что рисунки в пещерах — бизоны и всякое такое — волшебные… Я бы вызвал его прямо сюда и спросил. Нет, может, и не сюда, тут машины ездят, он испугается. Лучше в поля за город, ему будет привычнее. А тех, кто станет брать у него интервью, нужно одеть в шкуры, такие, как у него. И подобрать народ покрепче.
Я вот все думаю, если бы первобытный человек увидел наш, современный мир, ну там машины, телевизоры и так далее, что бы он предпочел: жить в наше время или вернуться в пещеры? Диплодоки и плезиозавры, тьма непроглядная, конечно, не подарок. Но машины и рак тоже.
Я. А ты что бы ему посоветовал?
Венсан. Знаешь, в конце концов, наверное, диплодоков. Только я бы подарил ему коробок спичек, если он еще не изобрел огонь, и еще, пожалуй, флейту.
Я. Так ты нарушишь ход мировой истории.
Венсан. Ты так считаешь?
Я. Конечно. Чтобы добыть огонь, ему нужно было думать годы и годы. Ты даешь ему спички, и думать теперь не надо. Лучше уж позволь ему добыть огонь самому.
Венсан. Но пока он будет его добывать, он промерзнет до костей.
Я. Что правда, то правда.
Венсан. И может, ему будет совершенно все равно, сам он изобрел огонь или нет, если он замерзнет?
Я. Да, наверное.
Венсан. И вообще, хоть я и не собираюсь никого критиковать, но Господь Бог все же мог бы дать ему огонь с самого начала. Про флейту я не говорю, хотя по вечерам, без электричества, с музыкой все-таки веселее. Но огонь! Как подумаешь, что были люди, которые совсем не знали, что это такое. Представляешь? У меня от одной этой мысли мороз по коже.
Я. Но ведь и теперь у многих людей нет самого необходимого.
Венсан. Конечно, но теперь люди хотя бы знают, что оно существует.
Я. Разве это утешение?
Венсан. Не знаю. Но если бы первобытные люди хотя бы могли сказать себе: когда-нибудь у нас будет огонь…
Я. Но тогда им не надо было бы его изобретать.
Венсан. А разве мы живем, чтобы изобретать?
Я. В каком-то смысле.
Венсан. Мы об этом еще поговорим.
Два вопроса, которые мне чаще всего задают
Но сначала, кто такой Венсан? Сейчас ему уже четырнадцать, для меня же он все еще малыш. Мой малыш. Мой младший сын. Старший — Даниэль, в этом году ему исполнилось двадцать. Еще у меня есть Альберта одиннадцати лет и Полина — ей девять. Мои дети.
Чаще всего меня спрашивают, пожалуй, вот о чем. «Как это вам удается писать?» Или: «Я вами просто восхищаюсь, у вас четверо детей, и вы умудряетесь писать». Как правило, те самые люди, что спрашивают об этом, через минуту уже просят меня выступить с лекцией в Ангулеме, прочесть рукопись двоюродного брата или набросать статью о жизни Флобера, а то и о мадам де Лафайет: «У вас это отнимет несколько минут».
И я не знаю, что им отвечать. Отделываюсь банальностью: «Главное — уметь организовать свое время». А что еще я могу сказать?
И второй вопрос, иногда с оттенком снисходительной иронии, иногда словно восхищаясь спортивными достижениями: «Наверное, очень удобно быть верующей?» Или: «Я восхищаюсь вашей верой!» Или же: «Это ведь большое счастье — верить…»
И я опять не знаю, что отвечать. Опять отделываюсь банальностью: «Не так уж и удобно. — Потом спохватываюсь: — Да, конечно, удобно, в каком-то смысле».
Я не умею отвечать на вопросы. Точнее, я не умею отвечать словами. Я смотрю на своих детей, на свою работу, на свою веру. Я говорю себе: «Вот они», — как говоришь перед зеркалом: «Вот мое лицо». Пускай другие дают им характеристики. А меня, пожалуйста, увольте…
В тот день, когда у меня с Венсаном состоялся этот разговор — я записала его, потому что он показался мне забавным, — мы отправились с ним выпить чаю в английское кафе возле Сен-Северина, где такие вкусные лимонные пирожные. Наш поход вовсе не был наградой Венсану: никакой награды он не заслужил. Нам просто захотелось поговорить, вот и все. Венсан в свои одиннадцать лет: плохой ученик, непоседа, забияка, сорвиголова, хлебом не корми, дай забраться куда-нибудь повыше, страшно ранимый, попробуй упрекнуть его — сразу в слезы, неисправимый мастер-ломастер, вечно весь в клею и краске, страстный пожиратель книг по естественным наукам и большой поклонник Арсена Люпена, порой немного педант, редкий грязнуля, с прекраснейшими на свете глазами и кое-какими познаниями в теологии. Но и ему тоже я не берусь давать характеристику.
То, что Венсану захотелось поговорить со мной: «Пойдем куда-нибудь, где можно спокойно поболтать», — моя маленькая радость, пустяк, на вид не стоящий упоминания, но такие пустяки протягивают для меня путеводную нить сквозь хаос перелистанных рукописей и перемытой посуды, сообщают жизни ее истинный смысл и ценность. Как тот день, когда Альберта впервые выступала в концерте (с пьесой для фортепьяно) или, возвращаясь из детского сада, прихватила с собой какого-то малыша; или когда Полина (ей было тогда пять!) заявила: «Сегодня я обедаю в ресторане»; тот день, когда она получила награду по чистописанию — на ней был новый фартучек, и выглядела она таким воспитанным ребенком! Или первое стихотворение Даниэля, его первая вечеринка; или саксофон, который он только что купил, и мы застыли в восхищении перед новеньким инструментом, поблескивающим в футляре, обитом бархатом; или когда он, нежась в ванне (на бортике — сигарета, в мыльнице — надкушенное печенье), сказал мне: «Я видел сегодня потрясающий сон. Я совершил долгое и опасное путешествие и возвратился, увенчанный славой, чтобы жениться на замечательной девушке». Из его глаз, огромных и зеленых, смотрела вся прямодушная молодость мира, молодость песен и стихов, смотрела радостная готовность к чуду, неизменная со времен Крестовых походов. Это светлые мгновения — в них то же счастье, какое дарит творчество. И вера. Есть и другие минуты, омраченные муками творчества и веры. И они слиты воедино, эти мгновения. Они слиты воедино, но разве это ответ на те два вопроса?