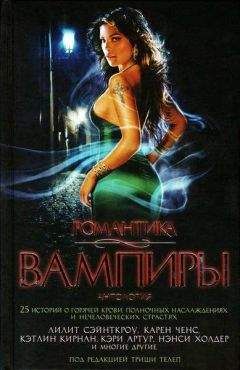Герман Садулаев - Иван Ауслендер: роман на пальмовых листьях
Потом Лилия Григорьевна принесла питьё, горьковатую, но приятную настойку. Они пили и улетали, далеко, далеко. И Ауслендер совсем открылся. Он сказал:
– Милая, чудесная моя. Мне так хорошо! Но… есть одно желание… может, оно тебя удивит…
Лилия Григорьевна прижала палец к губам Ауслендера и сказала:
– Я всё про тебя знаю, родной.
Она легко спорхнула с кровати и ушла в другую комнату. И вскоре появилась снова, толкая перед собой…
Зубоврачебное кресло.
Поверх красного белья она накинула бирюзовый прозрачный халат. Её лицо закрывала бирюзовая гигиеническая повязка. В руках она держала железные инструменты: скребки, крючки, спицы, щипцы, иглы. Рук было четыре. Нет, шесть.
Лист XIII
Холод
После официального объявления результатов выборов оппозиция пыталась согласовать митинг протеста. Иван Борисович был поименован как один из инициаторов-подписантов. Его даже не спрашивали особо – автоматически перенесли из списка заявителей прошлого митинга. Митинг не разрешили. А дня за три до назначенной даты на адрес Ауслендера пришло письмо из прокуратуры. Прокуратура вежливо и заботливо предупреждала Ивана Борисовича, чтобы он ни на какие митинги не ходил, так как эти акции не согласованы, следовательно, незаконны. Иначе прокуратуре придётся привлечь Ивана Борисовича к всяческой ответственности. Ауслендер внимательно прочитал уведомление и вставил его в красивую рамку со стеклом. Повесил на бедную стену среди своих немногочисленных трофеев: дипломы, грамоты, аттестаты. Письмо было красивое, на бланке, с печатью и художественной подписью.
Впрочем, к предупреждению Иван Борисович отнёсся со всей серьёзностью. И в назначенный день на митинг не пошёл. Вернее, пошёл. Но не на митинг. А как бы просто прохожий. Чтобы где-нибудь рядом постоять. Посмотреть. Но не участвовать.
Станция метро «Адмиралтейская» открылась в Петербурге недавно. Когда Ауслендер был молод, рядом с Дворцовой площадью и с Исаакиевской не было метро. Если ты хотел на Дворцовую площадь, то ты шёл от станции метро «Невский проспект» или ехал на троллейбусе. И к Исакию тоже пешком. А теперь открыли новую станцию, между Дворцовой и Исаакиевской. Очень хорошо. Очень удобно.
Так думал Ауслендер – просто чтобы о чём-нибудь думать. Он вышел на «Адмиралтейской» и направился к Исаакиевской площади. Не было толп народа. Были какие-то группы. Кто-то, наверное, тоже шёл на запрещённую демонстрацию. Но не афишировал. Все словно вышли просто погулять. Отчего бы не погулять в такую холодину?
Ауслендер шёл по улице и вдруг увидел картину, которая тронула его сердце. Невдалеке от метро, на первом этаже старинного дома светился жёлтым и красным Макдоналдс. Высокие, во всю стену окна-витрины обнажали внутренности едальни. Заведение было на две трети заполнено посетителями, они жевали, пили, смеялись, разговаривали друг с другом. С внешней стороны одного окна примостился неутеплённый бродяга. Он аккуратно разложил свою снедь на выступе под оконным проёмом. Ауслендер увидел какие-то куски хлеба, консервную банку. Водки не было. Была какая-то мутная жидкость в пластиковой бутылке. Бродяга стоял за стеклом и, вероятно, представлял себе, что он вместе со всеми, он в Макдоналдсе, он тоже ест, пьёт и шутит. У него тоже есть семья, есть компания и будущее. И жёлтый свет трактира освещал его так же, как настоящих посетителей. И до соседнего столика было рукой подать. Только между бродягой и миром было стекло, толстое антиударное стекло. И за стеклом было тепло. А здесь, на улице, холодно.
Ауслендеру захотелось плакать. Захотелось дать бродяге тысячу рублей, чтобы он смог покушать в трактире. Но Иван Борисович понял, что так он сделает только хуже, так он разбудит бродягу от его золотого сна. Ауслендер захотел разбить стекло едальни. Разбить все сияющие витрины на этой сияющей улице, уничтожить все барьеры и границы, разделяющие нас, мешающие нам понимать, что все мы – люди, все мы имеем одинаковые права на всё, что ни есть в этом мире. Ауслендеру захотелось взорваться кометой, сияющим метеором, чтобы осветить тьму и раздвинуть холод.
В общем, он, как всегда, прошёл мимо. Не разбил, не взорвался и денег никому не дал.
На площади уже начиналась игра.
Демонстранты сжимались в группы, скандировали речёвки. Центр площади занимали силовые подразделения. У памятника стояли специальные автобусы. Громкоговоритель громкоговорил о том, что акция не согласована, и советовал всем разойтись. Протестующие теснились по краям, но не расходились. Полицейские строились в красивые манипулы – в шлемах, с щитами и дубинками вместо мечей – и красиво атаковали, рассекая толпу. Каждый раз выхватывали внутрь построения с десяток горлопанов, которых затем помещали в специальные фургоны с решётками. Иван Борисович стоял поодаль и откровенно наслаждался красотой работы подразделений. В этом было… было что-то эпическое. Ауслендер пошёл вдоль периметра площади, чтобы осмотреть всё и возвращаться домой.
По пути он снова ранил своё сердце. Увидел мальчишку. Юный, наверное, студент первого или второго курса. Прыщавый. Нескладный, непривлекательный, как сам Ауслендер в свои студенческие годы. Мальчик стоял. Мальчик кричал лозунги. Горели его глаза. Так горели, что, казалось, рассеивали темноту не хуже фар автомобиля. Ауслендер сначала прошёл мимо. Но потом не выдержал и взорвался. Он кинулся назад, стал пробираться через толпу. Он хотел поговорить с этим мальчиком.
Он думал: надо ему сказать. Это не то, что ты думаешь. Ты пропадёшь, погибнешь. Сейчас тебе кажется, что ты участвуешь в каком-то важном и нужном деле. Тебе кажется, что это мужество и героизм. Ты такой же, как я, знаю. Ты никогда не мог проявить нормальное мужество, подравшись с обидчиком. Ты не виноват, такой уж ты уродился, трус, хлюпик и неудачник. И вот теперь ты хочешь за всё отомстить. Всем доказать. Ты видишь себя героем. Но тебя просто используют. Сегодня тебя поднимут на революцию, завтра отправят на войну. Ты сдохнешь. В первом же бою, наглотавшись свинца, обгадившись со страха, в слезах, ты умрёшь, а настоящие мужчины, умные и хитрые, умеющие, когда надо, спрятаться во втором эшелоне и атаковать наверняка, – они переступят через твой труп и пойдут делить трофеи и красивых женщин. А у тебя никогда не будет женщин. Никаких.
Но Ауслендер не нашёл мальчика на старом месте. Он оглядывался, рыскал взглядом в толпе, искал мальчика. Мальчика не было. «А был ли мальчик? – подумал Ауслендер. – А был ли мальчик?»
Зато совершенно неожиданно Иван натолкнулся на Асланяна. Рюрик Иосифович стоял как бы в толпе, но одновременно и нет, а совершенно независимо. Кажется, он был чуть-чуть пьян. Асланян прижал к себе Ивана и начал что-то рассказывать, что-то очень странное:
– Помнишь, мы разговаривали про театр Карабаса-Барабаса?
– Нет, не помню.
Ауслендер не помнил, чтобы он с Асланяном обсуждал театр Карабаса-Барабаса. Более того, Ауслендер был почти уверен: никогда такого не было. Не было никакого такого разговора. Ни про какого Карабаса. Но Асланян продолжал как ни в чём не бывало:
– Помнишь, как там всё закончилось? Я не про сказку, в жопу сказку. Я про фильм. Про классический советский фильм «Буратино». Там, где всё это ла-ла-ла-ла. «Скажите, как его зовут? Бу!» И так далее. Если перевести с языка символов советского социалистического символизма, то история такая: актёры свалили от старого злого продюсера Карабаса-Барабаса, из его театра, и открыли свой, новый, светлый и социалистический театр. Главный режиссёр – Буратино. И все веселы и счастливы. И, пройдя потайным ходом, который скрывался за нарисованным очагом в каморке папы Карло, актёры оказались в Советском Союзе и сразу на сцене социалистического театра. Это как в кино про окно в Париж, только наоборот. Вот, значит. Они сразу на сцене. Весёлые, поют. И Буратино. И полный зал счастливых советских детей. А Карабас-Барабас остался в прошлом. Но знаешь что было потом?
– Что было потом? – эхом повторил Ауслендер.
– Потом Советский Союз закончился. А вместе с Советским Союзом закончились счастье, молодость, радость, и весь вот этот светлый социалистический символизм, и песни хором. А что осталось?
– Что осталось?
– Театр остался. Унылый советский театр. С унылым символизмом, уже не социалистическим, а просто так. И зрители перестали ходить, потому что скучно. А у Карабаса как было? Там было шоу. Там эмоции. Садизм, мазохизм, несчастная любовь. Постоянно кого-то бьют. Экшн. Унижение. Бандаж. Насилие. Тонкий флёр грубого секса в каждой мизансцене. А у Буратино что? Песни хором, взявшись за руки. И бесполые отношения явно перезрелой Мальвины с женоподобным Пьеро. Это никому не интересно. Первой ушла Мальвина. Приползла на коленях к Карабасу-Барабасу и сделала всё, что он захотел, чтобы вернуться в труппу. Потому что пусть бьют, насилуют, унижают, лишь бы – слава. Так устроены эти люди. Так они устроены, Ваня. И даже пудель, даже пудель сбежал, не остался с Буратино. И знаешь где сейчас Буратино? Где папа Карло, где каморка и сверчок? Знаешь, Ваня, где? Где мы все, что с нами?