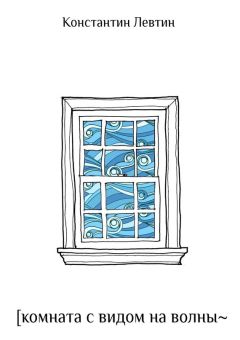Тристания - Куртто Марианна
У других ребят отцы никогда не ездили так далеко. У других ребят отцы привозили птичьи яйца и помет с острова Найтингейла, но Найтингейл близко, туда можно доплыть за несколько часов, да и нет там ни высоких зданий, ни разноцветных машин. Там только птицы, а у птиц уйма своих забот.
У других ребят отцы проводили в поездке одну-две ночи; возвращаясь, они жаловались на то, как утомились в дороге. Им хотелось прилечь, у них болели руки и ноги, а мой отец не уставал никогда. Он не уставал, хотя за конфетами в шуршащих обертках ему приходилось ездить в невообразимую даль: его отлучки длились так долго, что я сбивался со счета, и дни ожидания тянулись тоскливо и медленно.
Мамины дни тоже становились тусклыми и унылыми, хотя она и пыталась скрыть это. Ее голос делался странно пронзительным, а темные глаза блекли. Я уверен, со счету она не сбивалась, но, стоило мне спросить ее о том, когда приедет отец, мама отвечала, что не знает, доедай все и не отвлекайся, — добавляла она чужим тоном и уходила в другую комнату, чтобы посчитать без меня.
И когда отец возвращался, я чувствовал, что стал гораздо старше, чем был в день его отъезда.
Отец, не дожидаясь, когда лодка причалит, выпрыгивал из нее прямо в воду и выходил на берег, люди вокруг растворялись в воздухе, точно призрачные птицы, и в мире оставался только он, отец, только его ноги, в которые я вцеплялся, услышав его слова: «Кто у нас тут такой взрослый парень?»
Я лопался от гордости, потому что этим взрослым парнем был я, а еще потому, что все островитяне ждали его, моего отца, чьи глаза светились тайным знанием того, что творится во внешнем мире.
Но, конечно, я не был слишком взрослым, ведь отец легко поднимал меня, точно отломившуюся ветку.
Он прикреплял меня-ветку обратно к себе-дереву, и тогда мне казалось, что жить — значит расти вверх, до самого неба.
Проведав овец, Лиз и Элиде разворачиваются и спускаются по склону горы: проходят мимо завода, мимо Перекрестка трех камней к подножию смотрового холма, а оттуда вниз, в бухту.
На берегу Лиз зачерпывает в ладонь соленую воду и пробует ее на вкус. Пытается представить себе, на что похожа жизнь в море: неспешно растущие кораллы, косяки серебристых рыб, киты, напоминающие кожаные планеты. Думает она и о тех, чья жизнь оборвалась: о крабах с разъеденным панцирем, о моряках, так и не доплывших до пристани, — но мысли слишком большие, лучше сосредоточиться на маленьких делах, например поднять ракушку и погладить ее безжизненную поверхность.
— Посмотри, какие красивые цвета, — говорит Лиз и показывает ракушку Элиде.
Та кивает, недоумевая, зачем прикасаться к грязным предметам: их так много, а чистых так мало.
Элиде настолько погружена в повседневные хлопоты, что не замечает красоты, посреди которой живет. Она готовит еду в громадных кастрюлях, жалуется на ветер и солнце, а когда идет дождь, жалуется на дождь. Мечтает о более светлой коже. Смотрит на обои, на которых изображены женщины, увешанные драгоценностями, и чувствует себя испорченной жемчужиной. У Элиде огрубевшие пятки, растрескавшиеся от стирки руки, шестеро крикливых детей и муж, который смеется глазами, потому что в его рту недостает переднего зуба.
У Лиз один ребенок, а муж уехал и не вернулся. Будто краб с разъеденным панцирем… Но, возможно, этот краб сумел выбраться на берег и отрастил себе новый панцирь.
Лиз подносит раковину к уху, но ничего не слышит.
Кидает раковину в воду и вспоминает, сколько времени они с Элиде проводили на берегу в детстве, как ловко бросали собакам палочки или ловили с мальчишками крабов. Прикрепляли к концу лески кусочек мяса и камешек для тяжести, а затем ждали. Когда краб приближался к наживке, его нужно было просто достать из воды. Мальчика или девочку, кто вытаскивал самого крупного, увенчивали короной из крабовых панцирей с шипами.
Корона покалывала голову, но ее гордо не снимали до самого дома.
Теперь на голове косынка — такая гладкая, что все время сползает.
Лиз поправляет ее.
— Хорошо выглядишь, — говорит Элиде.
— Спасибо, но это совсем не так.
— Тебе не кажется, что стоило бы… Времени же много прошло.
— Элиде, нет. Мы это сто раз обсуждали.
— Тебе ведь чуть больше сорока. Не трать молодость зря!
— Каждому овощу свое время. Я уже не молодая, а старая.
— Раз ты старая, значит, и я тоже. Но я себя старой не чувствую.
— У тебя дети. Они помогают тебе оставаться молодой.
— Ну, не знаю. И потом, у тебя есть Джон!
— Верно, но Джон такой… Маленький взрослый. Иногда он говорит настолько мудрые слова, что я теряюсь.
— Да пусть говорит что угодно… А занимается-то он у тебя чем?
Лиз чувствует ярость. Почему подруга порицает ее решения, критикует ее сына? Ведь Лиз не попрекает Элиде ее детьми, которые бегают по поселку, размахивая длинными руками и весело горланя.
Чем занимается, тем и занимается, — рвется у Лиз с языка, но она не произносит ни слова, а просто молча отряхивает одежду от песка. Песчинки попадают под ногти и выглядят там как зола.
— Ладно, идем-ка домой, — говорит Элиде. — Дети уже наверняка есть хотят.
— Ни к чему морить малышей голодом, — кивает Лиз и думает о хлебе и мальчишеской руке, которая сжимает его.
Режет слишком твердую корку слишком острым ножом.
Помню, как однажды, сто или тысячу лет назад, мама прислонилась к яблоне, растущей во дворе, а отец — к окну, и они посмотрели друг на друга.
Их взгляды сложились в луч, который пересек наш двор.
Отец отложил книгу. Отец оставил кофе стынуть на столе, а рыбу лежать на сковороде, он бросил все дела ради женщины, опершейся о яблоню.
И когда он распахнул окно, мама прошла вдоль луча и забралась в дом через подоконник легко, словно поступала так каждый день.
От нее пахло сахаром. Пахло голыми плечами.
А я был во дворе и смотрел на закрытое окно, в котором отражались свет и тень.
Они образовывали узор из вертикальных полос.
Когда Лиз и Элиде спускаются на ровную землю, Лиз поднимает взгляд к вершине горы. Снег искрится белизной, как и всегда.
Но что-то изменилось: вершину окружает странное кольцо света. Трудно сказать, в чем дело, но Лиз догадывается, что это не обман зрения.
Она прибавляет шагу.
— Куда это ты так заторопилась? — спрашивает Элиде.
— Беспокоюсь, как там Джон, — отвечает Лиз. Она знает, что разговаривать с Элиде о свечении над горной вершиной бессмысленно.
— Да ничего с ним не сделается. Сидит во дворе и читает, что же еще? В отца пошел, — хмыкает Элиде и только потом понимает, что сказала бестактность.
Впрочем, сейчас ее слова нисколько не задевают Лиз, потому что та размышляет о горной вершине, а не о пустом месте за обеденным столом и не об умерших цветах, которые она сожгла и зарыла их пепел в саду, чтобы вырастить новые, живые.
Элиде шагает быстрее, чтобы не отставать от Лиз. Вскоре подруги доберутся до Перекрестка трех камней, где их пути разойдутся, и тогда Элиде порадуется, что она не на месте Лиз, хотя у Лиз более густые волосы и более узкая талия, за которую мужу было бы приятно обнять ее.
Но Ларс уехал и не вернулся.
У Пола выпало несколько зубов, а руки загрубели, но он, по крайней мере, никуда не делся: приносит картошку с картофельного участка, привозит яблоки с Песчаного мыса, забивает быка, когда приходит время забоя, ужинает за одним столом с Элиде и детьми. Да, настроение у него, как правило, скверное, а если вдруг становится хорошим, то длится это недолго. А по ночам он храпит так, что у соседей слышно. И все же он здесь, со своей семьей.
— Скорее всего.! — говорит Лиз. — Джону нравится быть одному.
— Не то что моей маленькой обезьянке, — отзывается Элиде, и Лиз морщится.
Они подходят к перекрестку и слышат знакомый старческий голос.